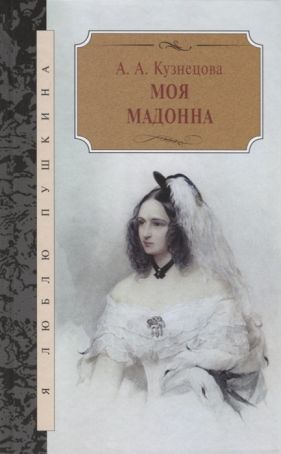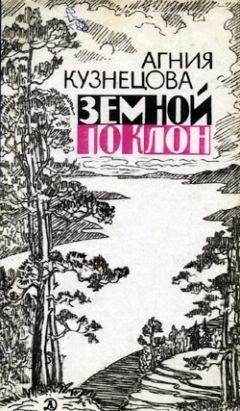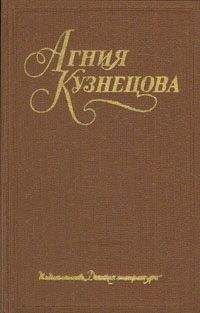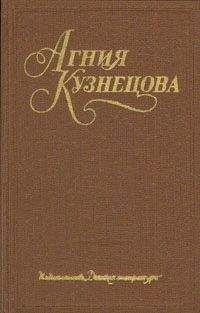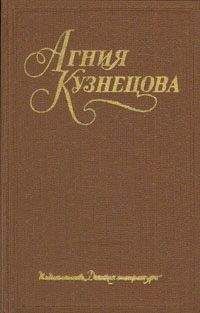тогда-то и выяснилось…
За три дня до приезда Петра, когда он был уже в дороге, Аграфену Спиридоновну похоронили на Ильинском кладбище, рядом с могилой дочери Евлампии.
И снова Петр сидел в кабинете управляющего и, несмотря на согнувшее его горе, так внезапно свалившееся на их семью, говорил о своих делах.
После бессонной ночи, полной горестных дум, Петр еще больше ожесточился против своей подневольной жизни.
— Ну кем же, кем? Богом, что ли, определено так: одни безвольные, бессловесные рабы, другие хозяева, имеющие право купить, продать, подарить, избить и даже убить своего крепостного? И ни перед богом, ни перед людьми ответа не держат? Ну почему же, почему так?
Это был крик души.
И управляющий так же, как сделал это прежде, остановил Петра:
— У стен есть уши. — И, понизив голос, добавил: — Не тяни с расплатой за лечение молодого князя. Мальчик здоров, а сам князь плох. Садись вот туда, — он указал на небольшой стол в углу, — и пиши письмо его сиятельству. Я обещаю доставить письмо князю в его собственные руки, посланный мой — человек надежный.
Петр колебался.
— Не откладывай. Ведь и я не всегда буду сидеть за этим столом…
Волегов не знал тогда, что досидит за этим столом до самой смерти, не знал, что переживет графиню Софью Владимировну Строганову. И когда строгановское имение перейдет к старшей дочери Софьи Владимировны — Наталье Павловне, она даст доверенность на управление своему мужу Сергею Григорьевичу Строганову, но и тот в 1864 году, приехав в имение, снова назначит Волегова управляющим. Он не знал, что на его долю выпадет проведение великого акта раскрепощения крестьян в Пермском имении Строгановых. В Ильинском наделению подлежало тогда 30 389 душ крестьян. А дворовых наделом обошли…
Петр взял бумагу, обмакнул перо в чернила и стал писать:
«Ваше сиятельство! Вас смеет беспокоить известный Вам лекарь, крепостной дворовой человек графини Софьи Владимировны Строгановой Петр Яковлевич Кузнецов. В первый же день моего посещения Вас, когда я дал согласие лечить молодого князя, Вы предлагали мне деньги, от которых я отказался, ссылаясь на народное поверье, что только тот лекарь поможет больному, который будет лечить его безвозмездно.
Я знаю, что Ваш сын теперь здоров, и я согласен, Ваше сиятельство, принять за мой скромный труд то вознаграждение, которое Вы сочтете нужным определить.
Податель этого письма может и привезти мне деньги, за которые Вам, Ваше сиятельство, я буду благодарен всю жизнь».
— Ну что, Петруша, готово? — спросил Волегов.
— Готово. Но что-то так тошно на душе, что охота порвать письмо на мелкие клочья…
— Не глупи, — строго сказал Волегов. — Помни, речь идет о всей твоей жизни. Да не только твоей. Хочешь, чтобы и сын твой рабом остался?
Петр ничего не ответил.
Он думал о матери. Вспоминал ее на сцене… Бог дал ей великий дар, но осталась она в неизвестности. Крепостная актриса! Что могло быть страшнее этого?
Он тяжело переживал, что старого деда, умного, доброго, но больного, прикованного к постели, вчера увезли в богадельню. Петр обещал приехать за ним, забрать к себе… Хотя знал, вряд ли согласится Олимпиада взять старика в свой дом. Зачем он ей?
Волегов, не нарушая задумчивости Петра, взял его письмо, перечитал и остался доволен. На случай — а вдруг Петр раздумает — он положил его в стол.
— Теперь все будет зависеть от благородства его сиятельства, — сказал он и подумал: «Нет, не от благородства, а, скорей, от самодурства». Он хорошо знал князя.
В это время служащий принес управляющему пухлую папку с подшитыми в нее письмами. Волегов присел к столу, перелистал бумаги. И, отрываясь от них, сказал Петру:
— Жалобы на меня графине Софье Владимировне, точно это я придумал борьбу с раскольниками-староверами. Мне велено следить, чтобы крестили детей, иначе родителям грозит наказание до ста плетей, вот я и слежу.
— Значит, и на вас жалобы? — спросил Петр. — Хорошо, что они к вам попали.
— Пока что ко мне. Не все, конечно…
«Да, и Волегов не всемогущ», — подумал Петр. И вдруг с неприязнью вспомнил, как в народе зло говорили об управляющем, будто тот за горячее участие в ликвидации раскоха, за наказание раскольников плетьми получил архипастырскую благодарность.
В то время когда Петр был в Ильинском и горевал о смерти матери, о беспросветной судьбе деда, Олимпиада родила сына.
Его нарекли Николаем.
(Это был мой дед, Николай Петрович Кузнецов, чьей рукой испещрена третья тетрадь нашего родового дневника.)
Младенец лежал в пестрой оборчатой люльке, подвешенной к потолку, и Олимпиада, продев ногу в петлю, спускавшуюся к полу, качала его. Ребенок был неспокойный и крикливый, но как радовался, как гордился им Петр: «Сын! Первенец!»
В доме с рождением сына все стало иначе, будто бы и светлее и теплее. И жена Петру сделалась дороже и ближе. В комнатах пахло сладковато-нежным запахом ребенка, запахом жизни, покоя и счастья. Петру хотелось быть дома. Он только теперь понял ощущение дома, своего дома, своей семьи…
Даже теща и та вроде бы присмирела. Помогала Олимпиаде купать, пеленать ребенка.
Покой семьи нарушило мрачное письмо Федора Никитича. Он писал, что болен серьезно, что предчувствует близкую смерть и мечта его выйти на волю вряд ли осуществится. Денег, заработанных для этой цели, еще немного, но он их так же, как и дом в Билимбае, завещает Петру с Олимпиадой и умоляет Петра любыми путями доставать деньги для выкупа себя, семьи, внука. В конце письма он просил приехать за ним и привезти его в Билимбай. Одному жить стало не под силу.
Петр прочитал письмо жене и хотел позвать тещу, чтобы посоветоваться, но Олимпиада отрицательно покачала головой.
— Не к чему, — сказала она. — Маменька тотчас же соберется и поедет за отцовскими