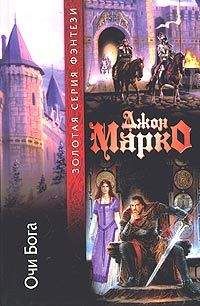Сенька спросил с горькой усмешкой:
— А на Рязани что тебя поджидает? Аль не отведал у барина-господина плетей?
— Бухнусь барину в ноги; верно, отходит плетью, да простит. На земле маята лучше, чем под землей.
Сенька недовольно сдвинул брови:
— Эх ты, рязань косопузая, о себе думаешь. Зайцем потрусишь — поймают…
— Не поймают, — шевельнул плечами рязанец и ухмыльнулся.
— Храбрый! — Глаза кержака стали грозны. — Ослобождали — с нами, а ослобонили — в сторону. Я, Сокол, с тобой иду. Завязали мы, Сенька, свою жизнь одним узелком: драться нам вместе и умирать вместе.
К Сеньке подобрались пять беглых; решили с ним идти в огонь, в воду. Остальные — кто куда.
По лесу потянул предутренний холодок, на кустах засверкала роса, и звезды гасли одна за другой.
Беглые в одиночку, по двое уходили каждый в свой путь. Уходили молча, не прощаясь, — стыдно было за поруху товарищества.
Меж тем в Невьянск на взмыленной лошади прискакал демидовский приказчик Мосолов и начал расправу. Со всего завода согнали рабочих к правежной избе; перед ней стояли козлы. Первым привязали Федьку-стражника, спустили штаны, и кат, поплевав на ладони, стал хлестать нерадивого. Стражник пучил рачьи глаза, не стерпел — орал благим матом. Кат прибавил силы в битье — Федька, осипнув, поник головой и замолчал. После каждого удара дергались только Федькины пятки.
После Федьки-стражника перепороли всех рабочих: на каждом нашли вину. Заводские выстроены в круг, в центре козлы, Мосолов хватал подряд первого попавшегося и вытаскивал на середину круга. Злой, с перекошенным лицом, он люто кидался на людей:
— Где ходил, где был?
— Дык, я до кузни шел да прослышал — сбегли…
— Секи! — командовал Мосолов кату.
У ката глаза налились кровью, рука раззуделась, сек нещадно. Сыромятный ремень сочился кровью.
— Ой, ладно! Ой, так! — поощрял Мосолов и хватался сам за плеть.
— Уйди! — отталкивал его кат: — Уйди, а то и тебя отхлещу…
— У, черт ретивый! — Мосолову по душе была такая усердность ката.
Секли женщин, бесстыдно задрав сарафаны. Холопки огрызались, вырывались, но дюжий кат глушил их кулаком и привязывал к станку.
Розыск шел три часа; кат выбился из сил; он бросил плеть, сел у козел прямо на землю и подолом рубахи утер ручьи пота; руки у палача дрожали.
— Что, пристал, пес? — недовольно поглядел на ката Мосолов. — Давай плеть…
Мосолов сбросил кафтан, засучил рукава, сам стал сечь. Палач глядел на приказчика, морщился:
— Плохо…
В сараях, где складывалось железо, нашли доглядчика Заячью губу. Доглядчик висел на кушаке, страшно высунув язык.
— Сам себя порешил, — доложили Мосолову.
Приказчик выругался:
— Труслив, губан! Выбросить из петли падаль…
По дорогам и лесам, на перевалах зашевелились демидовские дозоры, хватали беглых, вязали веревками и гнали в Невьянск. Поймали и галича, поймали и рязанца. Рязанец пал на колени перед объездчиком:
— Убей тута…
— Что, убоялся в Невьянск волочиться?
— Убоялся. Страшно, — тихим голосом сознался рязанец.
— Умел бегать — сумей ответ держать, — толкнул в спину беглого объездчик.
Галич держал себя смирно, шел с искровавленным лицом и утешал себя: «Христос терпел и нам велел…»
Искалеченных, избитых волокли в вотчину невьянского владыки. Каменную терновку[14] тесно набили провинными. Беглым набили колодки, заковали в цепи. Тем, кто огрызался, на шею надели рогатки.
Сенька Сокол и кержак да пять беглых ушли далеко; много застав миновали. На демидовских куренях нарвались на углежогов. Углежоги не донесли, поделились последним хлебом…
В лесу беглые поделали себе дубины. Вел Сенька Сокол ватажку на Волгу-реку. Дышалось легко, по лесам пели птицы, на глухих озерах играли лебединые стаи. Под июньским солнцем млели белоствольные березки, на полях гудели пчелы — собирали мед.
Раны от кандалья заживали, обвертывали их лопушником — врачевались сами. Песен не пели, шли молча.
— Успеем, напоемся. — Сенька всматривался в синие горы. — Все горы да увалы, увалы да горы. Погоди, вот минем Башкир-землю, выйдем на Каму-реку и запоем.
— Петь будем, купцов дубьем бить будем, ух, чешутся мои рученьки! — Кержак сладко потягивался, в черной бороде поблескивали острые зубы.
По горам да по лесам поселки редки, народ мается в них суровый, но обычай такой: посельники на полочке у кутного окна на ночь ставили горшок молока да хлеб. Бежали из Сибири на Русь измаянные люди, уходили от демидовских заводов на юг, в степи, скрывались кабальные на Иргиз-реке у раскольников. Всех беглых подкармливали посельники. Сенькина ватажка сыта была…
Вышли на Каму-реку: вода — синяя, леса — темные. По берегу тропы натоптали лаптями бурлаки, намочили едким потом; на тропах не растет трава, не цветет цвет. В Каме-реке рыба играет, струги плывут. В Закамье — боры, над ними медленно двигаются снежные облака…
В сельце ватажка упросилась в баню. Кривоглазая баба в синем сарафане недоверчиво оглядела мужиков:
— Может, вы беглые, а то каторжные, а мужик мой на стругах ушел…
Кержак присел на колоду, рассматривал бабу. Она была тощая, ноги — курьи, незавидная. Кержак сплюнул.
— Верно, народ мы ходовой, но баб не трогаем.
Про себя кержак сердито подумал: «Измаялись, а не всякую подбираем».
И женщине:
— Ты нас, хозяйка, пусти; испаримся да богу помолимся…
Посельница жадно оглядела ватажку:
— Лужок скосите — пущу. Мужики не мужики, гляжу, а медведи…
Пришлось стать за косу. Пожня густа и пахуча, травы сочны и росисты. Посельница накормила ватагу, косилось споро; работалось, как пелось. В мужицкой душе поднялось извечное — к земле приглядывались, принюхивались к травам.
Над пожней неугомонно играли жаворонки — старые приятели. Солнце грело, во ржи кричали перепела.
Сенька первым шел, за ним — кержак, за кержаком — пятеро. Трава ложилась косматым валом, дымилась — испарялась роса…
К полудню покончили с пожней, посельница сытно покормила. Беглые накололи дров, истопили баню, залезли в нее.
В бане — хохот, хлест, ругань; кряхтели, мычали от запаха веников да хлестанья. Сладко ныло, свербело измаянное тело.
Кривоглазая посельница загляделась: здоровущие озорные мужики выбежали из бани — и в Каму-реку. Плыли, сопели; наигрались — и на берег; от накаленного тела шел пар.
После доброго пара и маяты беглые забрались на сеновал и захрапели.
Той порой беглецов заметил староста; он обегал дворы, собрал крепких мужиков-прасолов, судовщика; побрали вилы, топоры, окружили сеновал и повязали сонных беглых. Они спросонья глаза протирали:
— Откуда только пес злобный взялся?
Обувь у старосты — юфтяная, ноги большие, сам — дохлый кочет, а глаза желтые. Староста допытывался:
— Демидовские? Кто из вас ватажный?
Кержак глядел исподлобья. Сенька плюнул в рыжую бороденку старосты:
— Угадай, кто ватажный!
Прасол, плечистый мужик в темной сермяге и в смазных сапогах, нацелил на Сокола вилы:
— Заколю! Пошто забижаешь?
— А пошто повязал? Мы вольные казаки и шли своим путем…
Прасол оперся на вилы, морда — нахальная:
— Видывали таких казаков, их ныне от Демида бежит, как вода журчит.
— Ряди караул да гони по Сибирке.
— Знакома дорожка-то? — утер бороденку староста.
Беглые отмалчивались.
Кержак поднял волосатое лицо, загляделся на голубизну неба, вздохнул:
— А небушко-то какое… Эх, отгулялись, братцы!
Он стал рядом с Соколом, крикнул мужикам:
— Ведите, ироды!
Ватагу подняли, стабунили и погнали по дороге…
Дорога пылила, жгло солнце, а в небе кружил лихой ястреб-разбойник.
Сокол тряхнул кудрями, вздохнул глубоко:
— Не унывай, братцы. Споем от докуки.
Ватажники запели удалую песню…
Неделю усердствовал Мосолов: перепорол всех от мала до велика. Козлы у правежной избы и земля густо обрызгались кровью. Из терновки по ночам волокли гиблых, хоронили тайно. Доглядчика-раскоряку Заячью губу выбросили в лесу. Воронье передралось из-за мертвечины, зверье обглодало кости.
Приказчик хвалился кату:
— Слово мое крепко; хозяину своему предан. Вот оно как!
Кат от большой работы утешил звериный зуд, обмяк, умаялся. После правежа он нахлестался хмельного, повалился под тыном и мычал. Огромные пятки босых ног желтели на солнце. Лохматая голова палача покоилась в тени, в чернобылье…
Голодные псы лизали кровь с сыромятной плети…
Завод работал неустанно, равномерно постукивали обжимные молоты, на пруду шумели водяные колеса, в домнах варилось железо. Из лесных куреней приписные мужики возили нажженный уголь. От хозяина Демидова приходили хорошие вести. Все шло гладко, на добром ходу.
В воскресный день пополудни на заводской двор пригнали изловленных на Каме-реке. Беглых выстроили в ряд, из заводской конторы вышел Мосолов, обошел их. Насупился; кержака и Сеньку наказал отвести в сторону, а пятерым беглым приказал скинуть портки. Мужики оглянулись, кругом тын островьем кверху, у ворот пристава — не сбежишь; понурились и покорно сняли портки. Отдохнувший кат опять потешил душу…