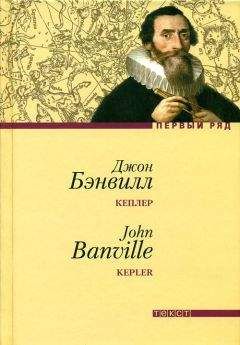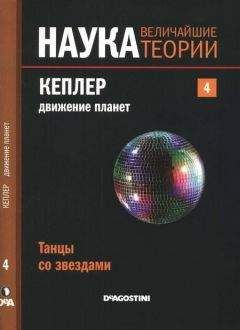Биллиги тоже смеялись, но как-то бледно. Его веселость, он видел, их не обманула. Им не терпелось узнать истинную причину — зачем было бросать дом и семью ради такой полоумной затеи. Он бы и сам не прочь узнать. Удовлетворения? Этого он жаждал? Обещание 4000 флоринов — все в сумке, под несломленной печатью. Ну и на сей раз, всего скорей, получит он другой, столь же ненужный клочок пергамента. Трех императоров он знал, бедного Рудольфа, захватчика Матвея, его братца, и вот колесо злосчастья свершило полный круг и старый враг Фердинанд Штирийский, бич лютеран, надел корону. Да он бы и не приблизился к нему, кабы не этот долг проклятый. Ровнехонько десять месяцев, день в день, без него обходился.
* * *
К утру похолодало, небо в синяках, воздух отдавал металлом, и всё как затаило дух, дивясь выпавшему снегу. Грязно-белые глыбы льда катили по реке. Во тьме перед рассветом он лежал без сна и со страхом слушал, как урывни, разбиваясь под корабельными носами, скрипят и стонут, и сыпят дробным треском, как дальней мушкетною пальбой. Пристали с первым брезгом. Пристань была пустынна, только дворняга с взбухшим брюхом гоняла ускользающий швартов. Шкипер угрюмо оглядел Кеплера, луковым духом изо рта забивая вонь кож из трюма.
— Прага, — он презрительно повел рукой, будто создавая этот спящий город из стылого тумана. Кеплер поторговался о цене.
Из Ульма он явился с первыми отпечатанными экземплярами своих Tabulae Rudolphinae. И на сей раз по пути снова остановился в Регенсбурге, где жила у Биллигов Сюзанна. Было Рождество, он чуть не год целый не видал ее, детей, но он не мог мешкать. Иезуиты в Дилленгене показали ему письма от своих священников в Китае, те спрашивали о новейших открытиях в астрономии, и он тотчас же взялся за составленье небольшого трактата для миссионерских нужд. Дети почти совсем его забыли. Он за работой замирал, чуя их взгляды на своей спине, но, стоило обернуться, они, испуганно перешептываясь, бегом спасались на кухню Анны Биллиг.
Он предполагал продолжать путь в одиночестве, но Сюзанна взбунтовалась. Речи о буранах, о льдах на реке ее не пронимали. Ее горячность поразила его.
— Да хоть пешком иди в свою Прагу, мы с тобой пойдем…
— Но…
— Но нет, — и, чуть помягче, повторила: — Но нет, мой милый Кеплер. — И улыбнулась. Думала, он догадался, как ему несладко быть вечно одному.
— Какая ты добрая, — он бормотал. — Какая добрая.
Всегда он думал, ничуть не сомневался, что другие лучше его, заботливее, благородней, такое положенье дел, какого даже оправдание сплошное — вся жизнь его — не может изменить. Любовь к Сюзанне вечным, необъяснимым страхом ему теснила сердце, но и она была недостаточна, недостаточна, мала, как все, что исходило от него, как сам он. С мокрыми глазами он сжал ей обе руки, и, боясь сказать не то, молчал, кивал, кивал и таял.
В Праге остановились «У кита» что рядом с мостом. Дети так замерзли, что не плакали. Корабельщики катили с пристани бочонок его бесценных книг, по слякоти и снегу. Хорошо, что он снутри выложил его ватой, подбил клеенкой бочарные клепки. «Таблицы» — был изящный том in folio. Двадцать лет, не больше и не меньше, убил он на эту книгу! В нее ушла большая часть его, он знал, но не лучшая, нет, не лучшая. Прекраснейшие взлеты достались «Мировой гармонии», и Astronomia nova, и Mysterium — его первенцу. Да, он чересчур много времени извел на эти «Таблицы». В год, ну пусть в два легко мог бы уложиться, когда после смерти Браге получил все наблюдения — если б не разбрасывался. Еще бы и разбогател. Теперь, когда все тем только и заняты, что рвут друг другу глотки, кому какое дело до таких сочинений? Возместить расходы на печатание, и то бы славно. Положим, кой-кому все это, может быть, и небезразлично и теперь — но что ему в китайцах, их обращать, в папизм к тому же, черт ли в них? Да, ему будут благодарны моряки, и путешественники, отважные исследователи. Всегда его тешила мысль о суровых мореходах, склоненных над картами и диаграммами «Таблиц», острым взором пробегая блеклые листы. Это они, не астрономы, обессмертят его имя. И он бесплотно взмоет над бескрайностью, почует соленый ветер, услышит вой бури в реях: он, никогда не видывавший океана!
Он не готов был к Праге, к новому духу, распространившемуся в городе. Двор вернулся из своего венского сидения — венчать Фердинандова сынка на царство в Богемии; Кеплер было обрадовался, вообразив, что воротился век Рудольфа. По дороге сюда он натерпелся страху, не только из-за льдов. Католики делали в войне успехи, а уж он-то помнил, как тридцать лет тому Фердинанд гнал протестантов-еретиков из Штирии. Все во дворце бурлило, шумело чуть ли не весело. А он-то ждал тиши и тайных козней. А уж наряды! Желтые шапочки, малиновые чулки, парча, шитье, алые ленты; такого не водилось и при Рудольфе. Он будто к французам угодил. Но по этим-то одежкам скоро он и догадался, как обманут. Никакого нового духа помину не было, все зрелище, все напоказ, все восторженная дань не величью — только силе. Пурпур и багрец были кровавым знаком контрреформации. И Фердинанд ничуть не изменился.
Если Рудольф, пожалуй, ему напоминал, к концу особенно, чью-то впавшую в детство мать, то Фердинанд, кузен, казался обделенною супругой. Бледный, оплывший, на тонких ножках, он держался с астрономом настороже, как будто ждал, что вот придет отведыватель, куснет кусочек, и уж тогда можно будет не бояться. То и дело он проливал пренеприятнейшие паузы — трюк, унаследованный от предшественников, — темные пруды, и неприязнь и подозрение плавают на глубине. Глаза усталыми часовыми стерегли несуразно грузный нос, и, белесые и застланные, не пронзали Кеплера, скорей ощупывали. Он праздно размышлял о том, не газы ли так мучат императора: Фердинанд все рыгал, смахивая с губ отрыжку, как фокусник обманный пустячок.
Император выдавил кривую тень улыбки, когда Кеплер предстал пред ним. «Таблицы» ему льстили; он имел посягновенье на ученость. Призвал писца, с важностью ему продиктовал указ о выплате 4000 флоринов в знак признания заслуг астронома, равно и в погашение затрат на печатание, и даже присовокупил, что за казною остается 7817 флоринов долгу. Кеплер переминался с ноги на ногу, мямлил, хмыкал. Давно уж понял: царственная милость всегда недобрый знак. Фердинанд его отпустил благосклонным мановеньем, а он не двигался с места.
— Ваше величество, — сказал он, — осыпали меня щедротами. Но не в одних щедротах дело. Ваше величество истинное великодушие выказываете, за мной оставя должность императорского математика, при том что исповедую веру, осужденную в стране, вашему величеству подвластной.
Фердинанд, растерянный, слегка встревожась, обратил к нему заплывший взор. Титло императорского математика, им сохраняемое со времен Рудольфа, стало теперь пустой звук, не более, но среди распрей религиозных его хотелось сохранить.
— Да-да, — уронил император рассеянно. — Но… — пауза. Писец с наглой веселостью смотрел на Кеплера, покусывая перо. Такие просьбы, подслащенные лестью, были по душе Рудольфу. Но это — Фердинанд. — Ваша религия, — продолжал император, — да… тут… э-э-э… некоторое затрудненье. Но мы так вас поняли, что вы готовы обратиться? — Кеплер вздохнул; старое вранье. Он промолчал. Пухлая императорская нижняя губа ловила, загребала ус. — Впрочем, э-э-э… это не столь важно. Каждый волен исповедовать ту веру, какую… какую… — Поймал жадный, затравленный Кеплеров взгляд и не мог себя заставить кончить фразу. Писец кашлянул, оба повернулись, взглянули на него, и Кеплер не без удовольствия отметил, как быстро ухмылка была стерта с лисьего лица. — Впрочем, не важно, — император сверкнул перстнями. — Война, знаете ли, создает известные затруднения. Армия, народ в нас ищут руководительства, примера, и нам должно… быть осмотрительными. Вы понимаете.
— О, разумеется, ваше величество. — Он понял. Ему нет места при Фердинандовом дворе. Вдруг, сразу, он себя почувствовал бесконечно старым, немыслимо усталым. Дверь в дальнем конце залы отворилась — кто-то к ним приближался, сжав за спиною руки, свесив голову, уперев взгляд в блестяще черные носы своих ботфортов, переступавшим по мраморным клеткам. Фердинанд его оглядел чуть ли не с отвращением.
— A-а, вы здесь еще, — сказал он так, будто с ним сыграли злую шутку. — Доктор Кеплер, генерал Валленштейн, наш главнокомандующий.
Генерал поклонился.
— Я, кажется, вас знаю, сударь, — сказал он. Кеплер глянул пусто.
— Он, кажется, вас знает, — сказал Фердинанд; мысль показалась ему смешна.
— Да, кажется, нас кое-что связывало, — не сдавался генерал. — Давным-давно, тому, собственно, двадцать лет, да, окольными путями я послал просьбу к одному звездочету в Граце, чью репутацию я знал, чтобы составил мой гороскоп.
Итог впечатлял: полный, неслыханно точный отчет о моем нраве и деяньях. Тем более он впечатлял, что я остерегал посредников, чтобы не открывали моего имени.