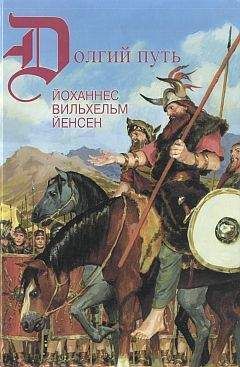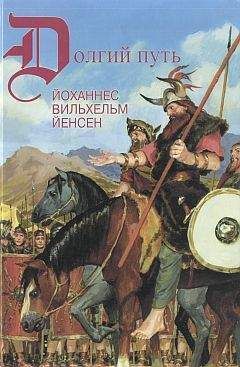Миккель заметил, что Аксель изменился с тех пор, как они виделись, он стал ровнее, но вся его былая непоседливость, казалось, сосредоточилась теперь во взгляде, глаза его так и сверкали живой отвагой.
Аксель уж в двадцатый раз принимался уговаривать Миккеля: «Пойдем, мол, что же ты!» Зная странности Миккеля, он все-таки не терял надежды: «Ты бы, дескать, хоть на Ингер посмотрел! Как можно уйти не повидавшись! Все, мол, будут рады тебе. И стол накрыт, и поесть, и попить — всего вволю».
— …А мать моей Ингер что-то разболелась, когда я рассказывал о тебе, — заметил Аксель между прочим, смеясь такому забавному совпадению. — Пойдем уж! Ты вот придешь — она и выздоровеет!
Миккель отводил свои светлые глаза в сторону, не отказывался, но и не соглашался идти. Аксель тянул его за собой, Миккель упирался и в глубокой задумчивости потирал подбородок.
— Что поделаешь! — Аксель безнадежно вздохнул, и у него опустились руки. Теперь он стал предлагать, что сам навестит Миккеля в трактире, где тот остановился: «Что, мол, за спешка такая!» И Аксель взял с Миккеля обещание, что он до завтра еще побудет в трактире..
— Ладно! Только приходи один, — жестко отрубил на прощание Миккель.
На том они и расстались.
На другой день Аксель застал Миккеля готовым к отъезду, коня он отправил заранее на пароме и сейчас нетерпеливо расхаживал по двору. Видно было, что ему давно уже не сидится на месте. Аксель смотрел на старинного боевого товарища с добрым чувством, и, видя, что тот во что бы то ни стало стремится в путь, Аксель, желая сделать для Миккеля хоть что-то приятное, предложил ехать вместе, решив проводить его через пролив на пароме.
Отплыв от берега, они долго еще молчали, Миккель был по-прежнему чем-то угнетен, но на середине пролива, где солнце глубоко пронизывало толщу зеленой воды, а впереди и за кормой виднелись светлые, по-летнему приветливые берега, тут уж Аксель поглядел окрест на морской простор и, не в силах сдержать себя, невольно заулыбался. И он стал рассказывать Миккелю про Ингер, как они славно с нею заживут: он купит поместье, теперь-то уж пора, он заберет свой клад… Ингер…
Аксель все говорил, голос его звучал так безгранично нежно и бережно, он глядел перед собой невидящим взором, и временами растроганно посмеивался, до глубины взволнованный тем, о чем говорил. Беспокойство охватило его; он вскидывал головой, выразительно взглядывал на Миккеля, позабыв обо всем на свете… а Миккель страдал от божественного добросердия юноши, как от обидной несправедливости, творимой расчетливо и бессердечно.
Аксель точно и не заметил, как они очутились на химмерландском берегу; не переставая рассказывать, он пошел с Миккелем по дороге.
Миккель уже не прислушивался, что говорит его спутник, он брел понуро, свесив голову на грудь. Они вышли в открытое вересковое поле, и вокруг них сомкнулась тишина. Настоянные на зное полуденного солнца терпкие запахи сухих трав наполняли воздух. Над дорогой с жужжанием пролетела пчела. Пение кузнечиков звучало из зарослей вереска, словно прерывистые вздохи. Кругом не видно было ни малейшего признака жилья или человеческого присутствия, и только широкая дорога, лениво змеясь, несла на своих изгибах чешуйчатый узор от множества проехавших колес. В миле пути виднелись гробёлльские холмы. Прозрачный небосвод высоко обнимал широкие просторы земли.
И тут, оставшись с Акселем совсем наедине, Миккель свершил свою месть.
Он не в силах был простить Акселю. А Ингер он ни разу в жизни не видел. И об Анне-Метте он нисколько не задумывался, разве что о своем мучении. Одна только мысль была у него в душе — о том, как Аксель оскорбил его в Стокгольме. Это да еще… еще — неукротимая ненависть к Акселю. Но в то же время сердце у него колотилось так, что готово было выпрыгнуть из груди. И чем больше он заклинал себя к действию, тем больше одолевала его слабость. Он был на грани обморока, как человек, который тщетно силится высказать любовное признание и не может. В сущности, для Миккеля все было совершенно безопасно, и он мог действовать наверняка, однако он медлил ради собственного удовольствия, ради своих терзаний. Он был унижен, оглушен своим унижением, сердце его сгорало. Ему казалось, что весь мир против него ополчился. В конце концов помрачение захлестнуло его, и все-таки он не мог решиться на черное дело. Не мог до поры до времени, пока не настал миг, когда словно не он, а кто-то другой совершил задуманное.
А произошло это так. Миккель вдруг споткнулся и остановился, уставясь неподвижным взором на Акселя. Аксель осекся и замолк посреди рассказа. Тогда Миккель выхватил свой длинный двуручный меч и напал на Акселя; тот был безоружен; Миккель наступал на него, странно размахивая выставленным перед собой клинком с беспомощностью ничего не соображающего от злости ребенка. Однако удар, который он нанес Акселю, был не на шутку жесток. Аксель, не говоря ни слова, следил за мечом и, защищаясь голыми руками, он чуть было не схватился за клинок, но в этот миг острая сталь поразила его колено. Боль хлестнула вверх, отозвавшись во всех суставах, она сотрясла его так, что голова пошатнулась на позвоночнике и Аксель пал наземь.
Миккель медленно вложил меч в ножны. Он постоял в раздумье, поглаживая усы. Затем нагнулся над Акселем, сунул руку ему за воротник, нашарил на теплой груди роговую ладанку. Сняв ее с шеи Акселя, он отошел на несколько шагов и только тогда открыл.
Ладанка была пуста; убедившись в этом, Миккель зашвырнул ее в кусты вереска и без оглядки пустился бегом по дороге.
Спустя несколько часов Аксель очнулся. На ногу было не встать, она сильно разболелась; протащившись с десяток шагов по дороге, Аксель сел посреди колеи и стал ждать — дышал себе потихоньку и ждал. Голова так разламывалась от боли, что темнело в глазах. Колено ныло не переставая, и он долго боялся взглянуть на него. Наконец решился, быстро обнажил ногу и посмотрел, что с ней сделалось. На колене оказалась всего лишь маленькая резаная рана с наружной стороны, и кровь даже не текла; но колено распухло, и до него нельзя было дотронуться.
День клонился к вечеру. Распелись перед закатом птицы. Из степи тянуло легким ветерком. Рядом рос кустик медвежьего винограда, но ягоды были еще твердые и неспелые.
Издалека послышалось поскрипывание колес, кто-то ехал от паромного причала. Это был воз, запряженный парой волов. Упряжка двигалась медленно, еле ползла. Наконец она приблизилась настолько, что Аксель мог окликнуть возчика. Аксель не стал просить, чтобы его отвезли до перевоза, он спросил, где находится ближайшая корчма, если ехать к востоку, и так как ближе всего оказалось до постоялого двора в Гробёлле, он попросил, чтобы его туда отвезли. На постоялый двор они добрались только к ночи, и хотя возчик подстелил Акселю охапку вереска, его все-таки растрясло в дороге и он чувствовал себя довольно скверно.
Его уложили спать в единственной комнате для постояльцев, и он задремал.
Поутру Аксель проснулся; в окне белел рассвет, но вместо облегчения от мучительных снов его ждало совсем другое; первое, что он ощутил после пробуждения, была боль в ноге, давшая знать о себе резким толчком; это был такой удар, что Акселя обдало жаром, когда, он понял, что все случившееся было не сон, а правда. Но после того как он глянул, у него и вовсе мороз по коже прошел — колено распухло вдвое против обыкновенного, оно было красным и беспокойно ныло. Тогда Аксель упал навзничь и залился слезами, трепеща, словно былинка на ветру; он молитвенно складывал руки и роптал на свою судьбу, глотая соленые слезы, струящиеся по щекам.
Утро еще не кончилось, когда в комнату Акселя вошел странный человек, черномазый и невысокого роста, он назвался Захарией. Захария был бродячий цирюльник, случайно оказавшийся по соседству. При виде его у Акселя сразу полегчало на душе.
— С добрым утром! — бодро приветствовал больного Захария деревянным голосом. — А ну-ка посмотрим, что там такое.
С этими словами он откинул перину и обеими руками схватился за больное колено. Аксель единственный раз громко вскрикнул.
— Хо-хо! — приговаривал Захария и невнятно ворчал, он ощупывал ногу костлявыми жесткими пальцами, но Аксель вытянулся на кровати и молчал.
И снова:
— Хо-хо! — Захария нагнулся пониже и промурлыкал: — Ага! Так я и знал.
Распрямившись, он сказал Акселю, что надобно сделать надрез и выпустить гной — дело совсем пустяковое.
Он взялся за свои приготовления, принес таз с водой и вынул из сумки орудия своего ремесла.
Аксель не сводил с него преданного взгляда, и в его памяти навсегда запечатлелся образ этого человека. У Захарии была смуглая дряблая кожа землистого оттенка, плоскогубый рот был точно подернут плесенью, десны и полусгнившие зубы имели такой вид, словно он пил едкую кислоту. Воспаленные глаза отливали краснотой, а под ними лежали иссиня-черные пороховые тени; волосы похожи были на сопревшее под дождем сено, и даже маленькие усики его по цвету напоминали прелое сено. Движения у него были быстрые и верткие, как у ящерицы, а глядя на его коричневые руки, невольно казалось, что они привычны копаться во всяческой гадости. Вдобавок от него исходил сухой и резкий запах, который источают жабы и другие пресмыкающиеся.