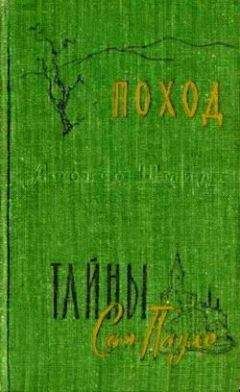Пресса перессорилась, газеты печатали пасквили друг на друга. Котежипе подал в отставку. Позиции сторонников рабства оказались подорванными. Люди, ранее проявлявшие безразличие к негритянскому вопросу, теперь оказались захваченными высокими идеалами дела освобождения; ряды его сторонников множились. Каиафы проявляли неслыханную отвагу. Для успокоения общественного мнения были изданы некоторые законы, облегчающие положение невольников.
Но Лаэрте был поглощен другим. Однажды у дверей редакции «Реденсан» он набрался смелости и потребовал у доны Лу ответа:
– В конце концов, когда же вы решитесь стать моей женой?
– Я уже сказала…
– Когда? Повторите!
Юноша был бледен, весь дрожал. Она рассмеялась. Потом все-таки ответила:
– Разве вы не помните? Так и быть, повторю: я выйду за вас замуж через тридцать дней после отмены в Бразилии рабовладения.
И они продолжали работать в аболиционистском движении. Проходили месяцы. Не дожидаясь закона, невольники сами освобождали себя, массами покидая плантации и зензалы. Тогда правительство вынуждено было наспех издать закон, который получил название «Закона 13 мая».
Лу выполнила свое обещание.
Венчание состоялось в Церкви богородицы-целительницы, с которой у молодых было связано столько прекрасных воспоминаний.
Медовый месяц они провели в Сантосе, в особняке с верандой, окруженной жасмином, откуда можно было наблюдать, как прибывают и отплывают корабли. Там они, упоенные любовью, прожили счастливейший месяц своей жизни, радуясь тому, что гуманное дело, за которое они боролись, увенчалось победой.
Однако настал день, когда они почувствовали, что соскучились по Сан-Пауло, по моросящему дождю, по колокольчикам конки, по всему, с чем они так сроднились. По Антонио Бенто, по друзьям-аболиционистам.
Бедный Калунга! Он уже больше не продает газет. Сейчас он уже, вероятно, сгнил в братской могиле на кладбище обездоленных, где хоронили невольников, заключенных и нищих, умиравших у порогов домов…
Они решили в тот же день вернуться в Сан-Пауло. Для этого им надо было пойти в торговую фирму, с которой был связан отец Лаэрте, и взять там деньги, переведенные Антонио де Кастро Алвимом в распоряжение сына. Они выпили кофе и пошли.
Над оградами домов, подобно колоннам, возвышались стройные жеривы. В пальмах пел морской ветер. Небо было голубым и безоблачным, как их счастье.
Они сели на конку – «спичечную коробку», как ее называли в Сантосе, – и доехали до площади. Город трудился. Слышался непрерывный грохот повозок, везущих кофе в порт. У закусочной стояли празднично одетые негры. Один из них играл на гитаре, другой пел:
Рабства кончился обман,
И теперь свободны все!
Славен Сантос Гаррафан!
Сложим песню о борце!
Потрудились мы усердно,
И теперь свободны все!
Храбр Кинтино де Ласерда!
Сложим песню о борце!
У этой аболиционистской песни не было конца. Она воспевала всех героев победоносного движения. Люди останавливались послушать ее. Несколько юношей-энтузиастов поднесли неграм по стаканчику. Кто-то спросил:
– Давно празднуете? Негры расхохотались.
– Больше двух месяцев, с тринадцатого мая, – ответил негр с гитарой.
Танцуя, парни двинулись дальше, снова зазвучал речитатив аболиционистской песни.
Лаэрте и Лу свернули на улицу Санто-Антонио, где были расположены оптовые склады. На узких тротуарах, преграждая путь прохожим, работали сотни полуголых негров. Нагруженные мешками кофе – иногда двумя, иногда одним, – они бегали от складов к повозкам, от повозок к складам. Сантос пах потом, машинным маслом и морем.
Торговая фирма помещалась в невысоком здании с изразцовым фасадом и тремя внушительными подъездами. Здесь же был и склад. Служащий, штемпелевавший мешки, сообщил Лаэрте, что контора откроется через полчаса.
Они решили прогуляться в парке. Словно позолоченный солнцем, он был почти пуст. Какое-то семейство, пассажиры стоявшего на рейде парохода, любовалось вековыми деревьями. Пароход прибыл из Аргентины. Старик в берете, чесучовом плаще и грубых ботинках был, видимо, главой семьи. Толстая краснощекая женщина с челкой интересовалась обезьянами. Юноша в бархатном костюме и круглой шляпе, одетой набекрень, увидев Лу, смутился. Он провел рукой по еле заметным бакенбардам, затем закурил сигарету, но сделал это так неумело, так неуклюже, что Лу даже остановилась посмотреть на него.
Фламбойяны, усыпанные красными цветами, казались окровавленными. Опавшие лепестки кружились в воздухе и устилали землю. Лаэрте и Лу уселись на скамейке и, слушая пение птиц, треск цикад и отдаленный шум города, тихо беседовали. Им надо было столько сказать друг Другу…
Они еще пребывали в этом сладком забытьи, когда мимо прошел старый, оборванный негр в шутовском цилиндре, напяленном на седую курчавую голову. Лаэрте узнал его и окликнул:
– Муже!
Негр не слышал – он казался глухим.
– Муже! Подойди сюда! Я синьозиньо Лаэрте!
Негр ничего не ответил.
Тогда Лаэрте подбежал и схватил его за полу пиджака. Муже обернулся и с невинной улыбкой заговорил:
– Негр задремал, трубка упала…
– Ты не помнишь меня?
– Э… э…
Перед Лаэрте был безумный.
В этот момент далеко разнесся веселый возглас мальчишки:
– Индюк в цилиндре!
Муже бросился бежать, надеясь поймать обидчика. Лаэрте вернулся к Лу. Обоим стало грустно. После долгого молчания Лаэрте спросил:
– Неужели «они» правы, говоря, что в нашей стране миллионы никчемных граждан?
– Возможно. Такими их сделали белые. Наказание – в самом преступлении. Но настанет день…
На обратном пути они снова встретили семью аргентинцев. Старик в чесучовом плаще очищал севильяной[56] апельсин…
Они вернулись на улицу Санто-Антонио. В помещении склада после яркого света казалось совсем темно. В воздухе носилась пыль. Грузчики негры лихорадочно, с гомоном и шумом орудовали лопатами. Было жарко, как в печке. Тела рабочих блестели от пота.
Контора находилась в глубине и была отгорожена от склада дощатым барьером с металлической сеткой наверху. Лаэрте представил письмо и получил деньги. Когда он под руку с Лу направлялся к выходу, ему преградил дорогу высокий, почти обнаженный негр с холщовой тряпкой вокруг пояса…
– Да это никак синьозиньо?
Грузчик, вытирая пот со лба, обрадовался, как ребенок. Засверкали его живые глаза, лицо озарилось счастливой улыбкой.
– Салустио! Это ты, Салустио!
Белый и негр обнялись, как братья, встретившиеся после долгой разлуки. У растроганной молодой женщины навернулись на глаза слезы.
Сертан– внутренние засушливые области Бразилии. – Здесь и далее примечания переводчика.
Фазенда – имение, поместье, плантация.
Кантилена – плавная тягучая мелодия.
Конто – бразильская денежная единица, равна тысяче мильрейсов или тысяче крузейро.
Пинга – бразильская плохо очищенная водка.
Лига (легуа) – бразильская мера длины, равна 6600 м.
Алкейре – бразильская мера земли, различная для разных штатов – от 2,42 до 4,84 га.
Кабокло – метис.
Браса – бразильская мера длины, равна 2,2 м.
Кумбука – сосуд из тыквы с круглым отверстием в верхней части. Служит главным образом для хранения воды.
Куйя – чаша из скорлупы куйи – плода дерева куйейра.
Гарапа – напиток из меда с водой.
Мунда (порт, «raunda») – чистая, гладкая.
Зензала – жилище негров-рабов на плантации.
Донана – сокращенное от «дона Ана».
Синъозиньо – молодой хозяин, господин.
Ангу – кашица из кукурузной, маниоковой или рисовой муки.
Луис Гама (1830–1882) – негр, один из руководителей аболиционистского движения, адвокат и писатель.
Лесные капитаны – так в Бразилии называли охотников за беглыми рабами.
Киломбола – раб, скрывающийся в киломбо – поселении негров, сбежавших от хозяев.
Тостан – старинная бразильская монета, равна ста рейсам (или одной десятой мильрейса)