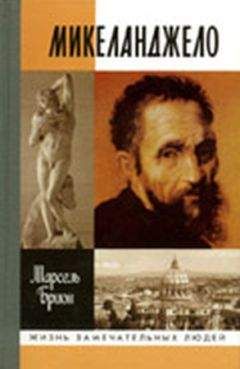— Так и прослужил все двадцать пять? — спросила Маша.
— Как один день. Где его только не носило! И на Кавказ гоняли, и с турками воевал. Когда рассказывал об этом, прямо диву давалась, как человек может все это выдержать. Даже в пустыню, где солнце сильно печет, водили их войско. Какой-то поход был. Пархом и говорил, да я забыла. Там еще город, куда они ходили, смешно как-то называют — то ли Гива, то ли Хива.
— Может быть, в Хивинском походе был? Слыхала я о таком походе, сосед из нашего дома рассказывал.
— О! Хивинский! Вот и Пархом там был. Солдатам приказывают — они и идут. Намучился там Пархом. Но живой вернулся. Дорогая моя невестушка, расскажу, что дальше было. Вот вернулся он домой, задумал жениться. Пришли к нам сваты, а потом его привели. Я посмотрела на него и подумала: хороший муж будет. Хотя он и старше меня, но в крепкой силе. Высокий, статный, усы черные, закрученные кверху. Дорогая Машенька! Ему было тогда сорок три года, а мне двадцать шесть. Мама моя и говорит: «Иди, дочка, за него, хорошим мужем будет тебе, он на той проклятущей службе соскучился по женщинам, будет ценить тебя». И я подала рушники. И надо сказать, не жаловалась и не жалуюсь на свою судьбу. Он был для меня лучше молодого парня. Хоть и старше на целых семнадцать лет, а я не чувствовала разницы в годах, была счастлива с ним.
Мы оба счастливы своими детьми. У нас сыновья и дочки хорошие, и у всех детки есть, наши с Пархомом внуки. Люблю я детей и внуков и мужа моего, дорогого Пархома, люблю, потому что он мне счастье в жизни открыл. Вот рассказала тебе о своей жизни, и как-то легче на душе стало. Ты относишься ко мне как к родной матери, и я — как к любимой доченьке, с открытым сердцем. С кем мне поделиться своими заботами, как не с тобой, моей дорогой невестушкой, да и ты со мной советуешься. Ты знаешь, что я хочу внуков от тебя. Я верю, что у тебя будут дети, сильные и крепкие. И скоро будут, поверь мне.
Вспоминает все это Маша, и на сердце становится еще радостнее от того, что у нее есть такая хорошая вторая мать. А как обрадовалась Харитина Максимовна, когда Маша сказала ей, что почувствовала под сердцем новую жизнь, новое существо. Расспрашивала Машу о самочувствии, о том, что ей хочется поесть и попить. И радовалась, что будут у нее внуки от Маши. А с каким волнением подбирала имя для внука, как только он родился. Кум и кума понесли ребенка в церковь крестить. А накануне вечером Харитина Максимовна побывала у дьякона Евгения Ивановича и очень просила, чтобы он в книге, которую называют часословом, нашел, каких святых поминают в тот день, когда Маша принесла внучка. Не понравился Харитине Максимовне ни Клавдий, ни Иасон, ни Мавр, ни Диодор, ни Иннокентий. А пришелся по душе Хрисанф. И отец Евгений похвалил ее. «Хорошее имя выбрала, раба божья Харитина, — сказал улыбнувшись. — Ты знаешь, что по-гречески означает это имя? Златоцветный. И как ты угадала Хрисанфа выбрать! Будет твой внук долго жить, и жизнь у него будет златоцветная».
Взволнованная и радостная Харитина кроме десятка яиц еще полкварты водки принесла отцу Евгению за хорошее имя для внука.
Вспомнила об этом Маша и опять улыбнулась. Разве можно было сердиться на Харитину Максимовну? Ведь она искренне заботилась и о невестке, и о сыне, и о долгожданном внуке. Называла его «жданчик мой золотой». И все всматривалась в его глаза, потом переводила взгляд на невестку. «Машенька! — восхищенно говорила она. — А глазенки у него такие же голубенькие, как и у тебя! Говорят, если у ребенка глаза, как у матери, то он до конца своей долгой жизни будет счастливым». Ну что ж! Пусть сбудется бабушкино пророчество и здоровым растет ее внук!
Смотрит Маша на сына и приговаривает: «Расти большим, мой дорогой Хрисанфчик! Только чтобы все было хорошо и чтобы ты на ноги встал при отце и матери, мой ясноглазый».
Мысленно пробегает Маша свою жизнь в Запорожанке. Вроде бы совсем недавно много дней и ночей добирались они из Москвы до Запорожанки, а уже прошло десять лет. Ей вот в январе пошел двадцать восьмой год. «Уже постарела я!» — с горечью подумала она. Утром посмотрела в зеркальце. Искала «гусиные лапки» вокруг глаз и не нашла. А у других женщин в таком возрасте появляются. Наверное, ее еще можно принять за молодую девушку: и стан гибкий, такой же, как был в Петербурге, и ресницы пушистые, и глаза не поблекли.
Да! Минуло десять лет, и длинных и коротких. Длинными казались, когда по временам ночью всплывали воспоминания. Короткими — когда летели они в заботах, работе и уходе за первенцем Хрисанфчиком.
Поездку в Запорожанку никогда, наверное, ей не забыть. Из Петербурга до Москвы добирались поездом, этим новым чудом. Ехали только одну ночь, вечером сели в вагон, а на следующий день утром прибыли в Москву. Была это чудо-новинка! Железная дорога родилась недавно в России. О ней даже присказку сложили: «До чего народ доходит — самовар по рельсам ходит». Сначала проложили дорогу от Петербурга до Царского Села. Однако служила она больше для развлечения. Несколько раз в праздничные дни и Маша ездила с подругами по ней. А спустя некоторое время появилась настоящая железная дорога для перевозки пассажиров и багажа.
От Москвы до Запорожанки путь на двести верст длиннее, чем от Петербурга до Москвы. Если бы поездом, то пришлось бы потратить на дорогу с пересадками еще два-три дня. Но железную дорогу на этой линии только начинали строить, поэтому новобрачные добирались в Запорожанку почти две недели. Побывали и в Туле, и в Орле, и в Курске, и Белгороде, и в Харькове. На этом длинном пути стояли ямские почтовые дворы. Станционные смотрители, любезно-предупредительные с высокими чиновниками и офицерами, неохотно разговаривали с простыми людьми, отделываясь короткими отказами: «Все лошади заняты для казенных нужд». Только в некоторых местах Никиту как гвардейца (а он ехал домой в полной парадной форме Преображенского полка) и его жену Машу подвозили в своих кибитках офицеры, ехавшие по служебным делам. Приходилось знакомиться и с прасолами-барышниками, которые скупали скот, переезжая из одной губернии в другую. А чаще всего пользовались крытыми тарантасами, владельцы которых, оборотистые мужики, начали зарабатывать деньги извозным промыслом. Сажали в такую «карету» с десяток пассажиров и везли их от волости до волости, либо к большим или малым городам, а там передавали другим смекалистым отходникам-ямщикам. Пассажиры сидели в таком тарантасе на скамейке вплотную друг к другу, а тарантас скрипел, подпрыгивал на ухабах. И так натрясутся, намаются люди, что голова разламывается от боли и все кости ломит. Единственным развлечением в пути были задушевные песни, которые с чувством пели ямщики. У некоторых из них были звонкие и красивые голоса.
Маша часто вспоминала Петербург, город, в котором прошли ее девические годы. Жалела ли она о том, что решилась связать свою жизнь с Никитой? Мысленно спрашивала себя об этом и в Петербурге, и по дороге в Запорожанку, и уже живя в селе, постепенно ставшем для нее родным. И только когда появился на свет ее первенец Хрисанфчик, она дала себе слово никогда больше не вспоминать о том вечере на вокзале в Петербурге, когда садились в вагон, когда ей казалось, что сердце оторвалось и навсегда осталось в этом родном туманном городе ее детства и юности, где были знакомы и улицы и переулки, исхоженные неутомимыми ногами.
Всякое случалось — и хорошее, и плохое, и смешное, и досадное. Нелегко привыкала к сельской жизни. Долго раздражало ее обращение к ней «барышня». Идет по улице, и встречные женщины приветствуют: «Здравствуйте, барышня!» А дядя Семен, который первым познакомился с нею в Велогоре и привез в Запорожанку, увидев издалека, всегда громогласно окликает: «Барышня! Добрый день! Как спалось?» Радовалась, когда запорожанцы постепенно начали забывать это слово. А когда стала учительницей, и вовсе забыли. С тех пор обращались к ней по имени и отчеству. И малые и старые называли Марией Анисимовной.
Не знала многих сторон сельской жизни. Однажды разволновалась и спросила свекровь, что происходит в соседском дворе, почему дед Махтей бегает с ножом, гоняется за поросенком, а он, бедный, визжит и удирает от него. «Я побегу, скажу деду Махтею, чтобы не мучил животное», — вопросительно посмотрела на Харитину Максимовну. И услышала, что надо почистить кабанчика. Стыдно, неловко было Маше. Хорошо, что спросила Харитину Максимовну, а не кого-то другого, полетели бы насмешки по всему селу.
Маша привыкала к новой для нее работе, вместе со свекровью полола картошку в огороде, вязала снопы во время жатвы, присматривала за коровой, которую помог приобрести Пархом Панькович.
С нетерпением ждала дня, когда поедут в Полтаву, в консисторию. Успокоилась только тогда, когда получила разрешение на учительство. Сразу появились новые заботы — как с учениками разговаривать, что сказать им в первый день, как расположить их к себе, как найти тропинку к их детским сердцам, чтобы слушались ее? И решила: «А совету строгого архиерея не последую!» Он не только советовал, но и приказывал, чтобы стращала учеников розгами, чтобы не стеснялась применять их. Самой не следует пачкать руки, в сельской управе есть сторож, отставной солдат, он знает, как это делать. Погреет одного или двух горячими розгами, другие станут шелковыми, послушными.