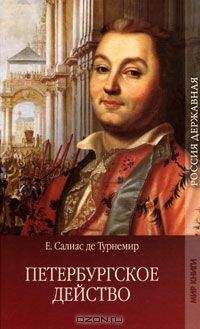Съ перваго же мѣсяца жизни внука въ домѣ, онъ далъ ему до сотни прозвищъ. Никогда не называя его по имени, онъ обращался къ нему со словами:
— Ну, ты! фертикъ! финтикъ! парижанская мусья!!
Затѣмъ онъ долго звалъ его, неизвѣстно почему, «ладеколонъ» и это прозвище всякій разъ заставляло его самого смѣяться до слезъ. Юноша только робѣлъ, краснѣлъ отъ всѣхъ прозвищъ и даже на послѣднее «ладеколонъ» отзывался, какъ если бы оно было имя, данное ему при крещеніи.
Наконецъ, однажды, спросивъ у Эмиля, допущеннаго стоять за столомъ у кресла внучка, графъ узналъ, какъ сказать внукъ по-французски, т. е. «petit fils» и съ этого дня у Кирилла было новое прозвище, которое, однако, менѣе обижало его.
— А! такъ вотъ что? воскликнулъ Іоаннъ Іоанновичъ:- такъ ты, фертикъ, выходишь мнѣ по вашему: путифицъ! Ну, такъ тебя путифицемъ и звать будемъ.
Смѣшное и грустное положеніе Кирилла или, какъ звали его въ домѣ всѣ люди, «графченка» увеличивалось, конечно, сначала его незнаніемъ русскаго языка, а затѣмъ, послѣ упорнаго прилежанія съ его стороны, его нелѣпымъ и дикимъ русскимъ языкомъ, пріобрѣтеннымъ благодаря урокамъ Эмиля. Брюзгливый дѣдушка не позаботился доставить внуку настоящаго русскаго учителя. Эмиль скверно говорилъ по-русски, а ужь ученикъ его иногда такія русскія слова произносилъ, что графъ Іоаннъ Іоанновичъ хохоталъ до слезъ и до колики.
Такимъ образомъ, въ однообразной жизни старика, внучекъ изъ Парижа или «путифицъ» сдѣлался незамѣтно домашнимъ скоморохомъ, забавой и шуткой. За столомъ, вкругъ котораго стояло всегда десятка два крѣпостныхъ офиціантовъ съ тарелками, графъ заговаривалъ нарочно и заставлялъ говорить «путифица» только на потѣху. И самъ каждый разъ хохоталъ онъ безъ конца, иногда болѣзненно желчно и притворно, и своимъ крѣпостнымъ офиціантамъ позволялъ фыркать въ руку отъ русскихъ словъ графченка.
Немудрено, что чрезъ полгода затворнической жизни, при отсутствіи кого-либо, съ кѣмъ душу отвести, помимо Эмиля, который сталъ вдругъ зашибать, полюбивъ россійскую водку, наконецъ при постоянномъ непріязненномъ отношеніи къ нему дѣда, оскорбляемый и скучающій, бѣдный путифицъ сталъ чахнуть. Онъ, вѣроятно, и умеръ бы, если бъ случайно его судьбой не поинтересовалась старушка, дальняя родственница Скабронскихъ, пріѣхавшая изъ Курска въ Петербургъ по дѣлу тяжебному и навѣстившая своего важнаго родственника.
Старушка эта была полусвятая жизнью и, конечно, добрѣйшей души женщина, но хитрая на добро. Она въ одинъ мѣсяцъ поддѣлалась къ старому графу, хотя это было трудно и убѣдила его призвать докторовъ освидѣтельствовать внучка; и докторовъ не русскихъ, а нѣмецкихъ, которыхъ въ Петербургѣ было не мало. Старушка объяснила это тѣмъ, что такъ какъ ребенокъ родился заграницей, то и тѣльцо его на половину нерусское, стало быть и болѣзни у него должны быть иноземныя, стало-быть и докторовъ надо чужестранныхъ.
Разумѣется, старикъ не послушался бы родственницы, но вслѣдствіе одного новаго обстоятельства Іоанну Іоанновичу самому хотѣлось совсѣмъ отдѣлаться отъ путифица. Онъ вдругъ приревновалъ къ нему, красивому юношѣ, свою, вновь заведенную «вольную женку», жившую въ домѣ. Докторовъ позвали, юношу осмотрѣли, нашли въ немъ признаки начинающейся чахотки и рѣшили, что его надо отправить жить въ такую землю, гдѣ не бываетъ снѣговъ и морозовъ.
— И прекрасное дѣло! воскликнулъ Іоаннъ Іоанновичъ, узнавъ это. Пущай гдѣ родился туда и уѣзжаетъ.
Тотчасъ же Іоаннъ Іоанновичъ снарядилъ своего внука, приставивъ къ нему двухъ дядекъ, одного русскаго изъ своей дворни, другого француза, взятаго изъ магазина съ Большой Морской. Присоединитъ съ нимъ глуповатаго, но добраго Эмиля было нельзя, такъ какъ онъ окончательно спился съ круга за послѣднее время.
Юноша собрался въ дорогу. За два часа до его выѣзда со двора въ дальній путь, во Францію, графъ Іоаннъ Іоанновнуь позвалъ къ себѣ семнадцатилѣтняго внука и сказалъ ему длинное нравоученіе: какъ себя вести заграницей, слушаться дядекъ во всемъ и отписывать ему аккуратно каждый мѣсяцъ о своемъ житьѣ-бытьѣ. Нравоученіе это сводилось къ тремъ главнымъ пунктамъ: молись чаще Богу, трать меньше денегъ и сторонись отъ женскаго пола.
Разумѣется, Кириллъ самъ себя не помнилъ отъ радости, что ссылкѣ его и затворничеству конецъ. Старушку, вступившуюся за него, онъ боготворилъ и даже звалъ съ собой тайномъ заграницу. Но она только руками замахала и объяснила, что коли онъ, паренекъ, чуть не померъ въ Россіи, такъ она во Франціи тотчасъ помретъ.
— Всякій живи, гдѣ родился, сказала она, — во всемъ Божьемъ міру такъ, соколикъ мой. На звѣрьяхъ и на деревцахъ то же видно. Былъ у меня подаренный мнѣ графомъ Разумовскимъ гишпанскій котъ, — года не выжилъ въ Россіи. Посадила я у себя въ вотчинѣ перламутровую грушу римскую, — за одну зиму всѣ высадки пропали.
Упрашивая старуху ѣхать съ собой, Кириллъ немного хитрилъ, — онъ боялся дѣда, ненавидѣлъ его, какъ и всю Россію, но теперь онъ боялся тоже своихъ двухъ дядекъ, какъ русскаго, довольно глуповатаго лакея Спиридона, такъ и вновь нанятаго француза Жоли, фамилія котораго далеко не шла въ его жирному красному лицу. Юноша понялъ, что эти два человѣка, ему совершенно незнакомые, по прнеазанію дѣда, будутъ имъ распоряжаться, какъ вздумается, на далекой чужбинѣ. Права и полномочія ихъ надъ нимъ были даны дѣдомъ полныя и строжайшія, особенно относительно трехъ пунктовъ.
A эти пункты было не равно легко исполнить.
Молиться Богу Кириллу было немудрено, онъ и самъ привыкъ это часто дѣлать съ горя и тоски въ домѣ дѣда, хотя тайкомъ отъ дѣда читалъ не «Отче нашъ» или «Вѣрую», которые и мысленно произносилъ съ трудомъ, а болѣе близкіе, даже отчасти родные «Pater Noster» и «Credo». Латинскія слова этихъ молитвъ онъ понималъ не болѣе, чѣмъ русскія, но привыкъ къ нимъ.
Затѣмъ — тратить много денегъ онъ не могъ, такъ какъ деньги были поручены Спиридону. Что же касается до третьяго пункта, то онъ былъ юношѣ совершенно неясенъ, потому что приказаніе дѣда сторониться отъ женскаго пола Эмиль, по глупости, перевелъ такъ, какъ самъ понялъ, т. е. совсѣмъ иначе. Эмиль сказалъ, переведя слова графа Іоанна Іоанновича съ русскаго на французскій:
— Ne touchez jamais le plancher.
Дѣдъ, не понимавшій ни слова по-французски, не исправилъ перевода. Вновь же нанятый французъ Жоли понялъ и перевелъ третью заповѣдь дѣдушки:
— Evitez la société des grandes dames!
Оба варіанта Эмиля и Жоли перепутались въ головѣ Кирилла и онъ самъ не зналъ, какъ выпутаться изъ бѣды, чтобы исполнить третью мудреную заповѣдь.
Переѣхавъ русскую границу и очутившись въ Польскомъ королевствѣ, а затѣмъ въ веселой, пышной, красивой Варшавѣ, Кириллъ какъ будто почуялъ вдругъ всѣми нервами своего существа иной духъ, потянулъ въ себя полною грудью иной, уже болѣе теплый, почти весенній воздухъ и сразу ожилъ, сразу, щеки его зарумянились, глаза заблестѣли.
— C'est un petit Paris! — воскликнулъ онъ, прогуливаясь по Краковскому предмѣстью и по Саксонскому саду. Вдобавокъ, теперь юноша былъ не «фертикъ» и не «путифицъ», а по дорогѣ величали его титуломъ и называли внукомъ русскаго магната, родственникомъ фаворита россійской императрицы. Самъ Кириллъ не отказывался отъ этого.
Черезъ полтора мѣсяца пути, будучи въ Парижѣ, юноша не только окрѣпъ, поздоровѣлъ, развернулся, какъ бы нечаянно для самого себя, не только вышелъ изъ-подъ вліянія и повиновенія своихъ двухъ менторовъ, но даже пріобрѣлъ вдругъ нѣкоторое вліяніе надъ ними. Случилось это очень просто.
Жоли былъ жирный и добрый французъ, у котораго была только одна страсть — спать. Всю дорогу, а затѣмъ и по пріѣздѣ въ Парижъ, Жоли спалъ и спалъ безъ просыпа. И, вѣроятно, отъ этого постояннаго сна или отъ праздности и сытой пищи, онъ окончательно отупѣлъ и соглашался на все, что дѣлалъ и предлагалъ «Monsieur le vicomte», какъ сталъ онъ звать питомца; соглашался онъ на все, вѣроятно, потому, чтобы не тревожить и не безпокоить своей лѣни отказомъ или споромъ.
Упрямый, глуповатый, но и грубоватый Спиридонъ, неограниченно и крупно повелѣвавшій и распоряжавшійся всѣмъ отъ графчика ему ввѣреннаго и до послѣдняго винта въ экипажѣ, притихъ вдругъ, даже пріунылъ, даже какъ будто струсилъ.
Тотчасъ по переѣздѣ границы россійско-польской, во время двухдневнаго пребыванія въ Варшавѣ, холопская важность и хамово упрямство Спиридона много поубавились. Онъ все оглядывался, озирался кругомъ себя, и дико прислушивался къ полуродной польской рѣчи. И, какъ собака, хотя злая, но попавшая нечаянно въ чужой домъ, обнюхивается, поджимая хвостъ и коситъ злыми, но боязливыми глазами, такъ и Спиридонъ ворчалъ, бранился, нападалъ на графчика, привязывался къ Жоли, но однако, тотчасъ же приходилъ къ обоимъ съ просьбой по-поводу всякаго пустяка.
— Не понимаютъ дьяволы! говорилъ онъ:- тридцать разъ повторилъ, балуются, будто не смыслятъ. Подите, скажите!