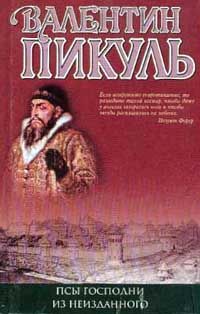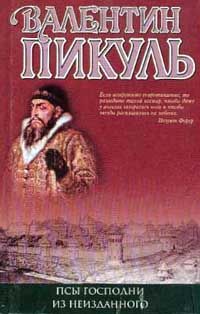— Не народ видно, а бояр, кои к царю ластятся, словно кошки, парного молока хотящие. Сами себя отдали на поругание, жен и дев на осквернение, а все восхваляют того, кто зачат был в мерзости пакостной от пособия колдовского…
После отставки Макария и отчуждения Германа царь с ненормальной настырностью желал видеть Филиппа митрополитом. Для уговоров непокорного игумена он даже унизился, прислав на Соловки делегацию бояр и епископов, которые слезно умоляли Филиппа ехать в Москву:
— Един ты остался, надежда наша! — говорили ему. — Кто, кроме тебя, отведет от нас гнев царский, кто станет печаловаться за землю Русскую? Может, сам бог указывает на тебя, чтобы не покинул нас во тьме кромешной, во тьме опричниной.
Филиппа убедил их крайний довод: «Коли митрополию ты отвергнешь, царь в свирепство войдет, и всех нас, к тебе ездивших, с детьми и женами в опричнину выдаст…» Вот Филипп и поехал в Москву, чтобы принять высокий сан, почти равнявший его, владыку духовного, с царем московским.
Встретились! Иван был доброжелателен:
— Стоустая молва по всей святой Руси о тебе идет, будто жизни ты праведной, а в делах разумен… Так скажи, святой муж, в утешение мне, страдальцу, слово божие.
— Скажу! — отвечал Филипп. — Великое бремя на тебе, а вручил ты его шаткой ладье без ветрил и без весел. Я пустыню свою Соловецкую покинул, оставил, дабы усмирить совесть твою заблудшую. Оставь опричнину сатанинскую, хватит собачьи головы на себя вязать да метлами народу грозить.
— Молчи, отче! — закричал царь.
— Если все молчат, так един я говорить стану, — не покорился Филипп. — Почто разделил государство на две страны, на Земщину и Опричнину, ежели даже в святом писании нам возвещено: «Аще царство свое разделиши, тое царство и запустеет».
Иван Грозный посох железный отбросил и зарыдал:
— Мои же люди хотят мя поглотити.
— Оставь дурь эту, — сказал Филипп. — Никто не замышляет на тя. Показывай путь народу делами добрыми, а не вводи людей за собой в геенну огненну. Соединяй землю русскую воедино, и велик станешь, а коли разъединишь ее — сам погибнешь…
Это все, что известно мне о разговоре меж ними. Но, очевидно, Филипп сказал царю что-то еще такое, что царь смирил гордыню, внешне он даже покорствовал митрополиту. Возможно, он бы и разодрал Филиппа на сто кусков раскаленными клещами, но, суеверный, боялся оскорбить высокий сан митрополита — после Макария да после Германа… Что скажут в народе?
— Не укройся от меня, — предупредил Филипп царя. — Ежели не станешь слушать речей моих в царских покоях, я такие же речи скажу в храме при всем народе…
Он принял сан митрополита как раз в то время, когда в Москве Земский собор решал — быть войне или быть замирению, и царь — вот чудо! — на время притих, затаился. Почти полгода Москва не ведала казней, и народ благословлял Филиппа:
— Солнышко наше! Усмирил зверя лютого… Кромешники-то, и те утихли. Едут да плюются на нас. а голов не секут…
После этого был осенний поход в Ливонию, поспешное бегство царя из Орши, тайные свидания с Джекинсоном, и за это время Иван Грозный освободился от упреков Филиппа Колычева, он снова стал тем, кем всегда был.
Строгий подвижник Филипп был готов завершить свою жизнь подвигом. Недаром же его прославили в своих картинах лучшие живописцы России: Неврев, Репин, Пукирев, Симов, Шаховской и прочие… Все они хорошо знали историю своей родины, и все они глубоко почитали Филиппа.
Опять возвращаемся к этим подметным письмам, в которых король Сигизмунд предлагал боярам покинуть царя и бежать от его гнева в свои польские земли. Что-то очень подозрительное было в этих посланиях, адресованных важным боярам — Челяднину-Федорову, князьям Вельскому, Воротынскому и Мстиславскому. Не была ли это явная провокация Сигизмунда, который, хорошо извещенный о подозрительном нраве царя, поименно указывал царю, кого из ближних бояр ему следовало уничтожить в первую очередь. Истратив склянку чернил и стопку бумаг, король мог легко избавиться от умнейших и деловых противников, сам оставаясь в стороне… Наконец, провокацию можно повернуть и обратной стороной. Не сам ли уж царь подослал эти письма от имени короля, чтобы потом иметь предлог для казни бояр? Историк Уманец, кажется, подтвердил эти мои догадки: «С уверенностью можно сказать, — писал он, — что в настоящем случае никаких подсылок (писем) со стороны Сигизмунда не было, но Ивану надобен был предлог для того, чтобы, отложив в сторону скучную добродетель, снова начать кровопролитие…»
И оно началось! Сразу же, как только царь, покинув армию, опрометью вернулся в Москву с таким горячим нетерпением, будто спешил на свадьбу. Скажем так: что там этот жалкий испанский король Филипп II с копотью и смрадом его аутодафе? Он выглядит жалким плюгавым бюрократом по сравнению с русским царем, который в деле истребления людей был не просто убийцей, а почти вдохновенным артистом с фантазией героев Шекспира…
Челяднин-Федоров, уже старик, чина лишенный, заранее весь ограбленный, был зван во дворец, где Иван Грозный встретил его очень ласково, как лучшего друга. Слугам своим велел он одеть гостя по-царски, и те облачили конюшего-старика в царские бармы, надели на голову его шапку Мономаха, дали несчастному в руки царский скипетр.
— Ты возомнил, что сладко царем быть, — сказал Иван Грозный, — так сядь и посиди на моем месте…
Не смея царю перечить, Челяднин-Федоров уселся на троне, и тогда Иван Грозный, обнажив перед ним голову, встал на колени, отпустив ему нижайший поклон до земли. Сказал так:
— Теперь возымел ты все, чего искал и к чему стремилась душа твоя, хотел ты занять мое место, вот и стал великим князем московским, так радуйся и наслаждайся своим владычеством.
Старик сидел на престоле — ни жив, ни мертв. Молчал.
— Впрочем, — досказал царь, — в моей власти садить тебя на престоле, но в моей власти и убрать с престола тебя…
«И, схватив нож, — писал Шлихтинг, — он тотчас несколько раз вонзил ему в грудь и заставлял всех воинов, которые тогда были, пронзать его ножами, так что грудные кости и прочие внутренности выпали из него на глазах тирана». После чего убитого за ноги выволокли на Красную площадь и там бросили — чтобы народ ужаснулся, чтобы собаки бродячие сыты были…
— Гойда, гойда! — веселились опричники, а царь, тоже радостный, послал их в дом Федорова, чтобы замучили жену его и всех, кто живет в доме казненного…
Среди главных приспешников был князь Михаил Темрюкович, брат царицы Марии Темрюковны, которого Иван Грозный высоко почитал за его жестокосердие. Это он вывел семью Казарина-Дубровского на двор, отрубил голову ему и жене его с сыновьями, но дочь Казарина, юная девушка, убежала и спряталась. Долго искали ее по всей Москве, а когда поймали, Михаил Темрюкович разрубил ее пополам секирою. Страшный смрад пронизывал покои кремлевского дворца — это на громадной сковороде живьем жарили князя Темкина-Ростовского. Но что там Темрюкович, что там царь? Вы бы посмотрели на царевича Ивана, каков молодец растет, как он старается угодить батюшке своему: «Когда он проходит мимо трупов убитых или снятых с шеи голов, то являет дух, жаждущий еще больше кары, он скрежещет зубами наподобие собаки, ругается над мертвыми, поносит их, протыкает и бьет их колкою, укоряя мертвецов за неверность в отношении к его отцу…» Так что, читатель, Ивану Грозному росла достойная смена!
— Зверь! — раздался вдруг голос Филиппа, который в полном облачении митрополита явился в палатах царя. — Доколе же ты невинных людей будешь умучивать? Неужто меры не стало ярости твоей ненасытной? На что же тогда законы писаны, ежели правды не стало? Поимей жалость хотя бы к невинным душенькам — ко вдовам плачущим да к сиротам…
Царь, опираясь на посох, молчал, дыша тяжко, с гневом; но, гнев смирив, отвечал кротко:
— Тебе ли, чернецу, судить о делах моих царских? Молчи, отче праведный, молю тебя… Христом-богом молю — молчи.
— Лютовали предки твои, на костях Русь выросла и сама на костях хлеб сажала, — отвечал Филипп, — но таких злодейств еще не ведала земля Русская…
От подобных увещеваний царь не усмирил лютости, но слушать Филиппа не хотел, и даже сам скрылся от него в новом дворце у Рисположенных ворот, где его окружали одни опричники, где не угасало пьяное веселье, где потешали его шутками-прибаутками Басманов с сыном Федором да князь Афанасий Вяземский. А вскоре явился, словно из преисподни, и тихо присел к столу царскому звероподобный и ухмыльчивый, себе на уме, Малюта Скуратов — мужик здоровый, дышащий шумно, как лошадь, с громадными, словно клешни, ручищами. Но тут до царя дошло, что Филипп, лишенный права видеть царя, начал обличать его при всем честном народе — в храмах божиих…
Малюта Скуратов скромно поклонился царю:
— Великий государь, помянем мудрость народную: коли не по лошадям хлещут, так бьют по оглоблям… Решай сам!