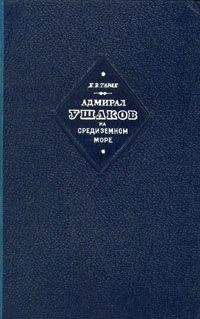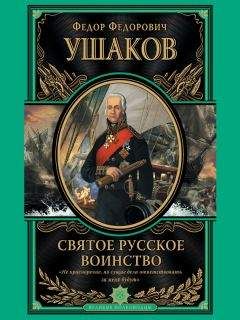Ровно в полдень в галереях бессчетных минаретов появляются муэдзины: сзывать правоверных на молитву. Подойдешь к одному, услышишь голос мрачно-торжественный; подойдешь к другому – пронзительный и дрожащий; а третий льется, приятный и свободный, и все эти голоса создают как бы хор, плывущий в поднебесье. И право, есть в этом хоре величие и торжественность. «На молитву, на молитву! Замените земные помыслы воззваниями к богу… Нет бога, кроме бога, и Магомет пророк его… На молитву, на молитву…»
А после молитв – земные помыслы. Куда от них денешься? Земные помыслы в дощатых домах, размалеванных разными красками, с тростниковыми решетками на оконцах. И в трактирах Галаты, о которых дураки говорят, что они «опозорены развратом». И на базарах, чем-то напоминающих московские, в лавочках, где, честно сказать, маловато пресловутой азиатской роскоши. И на лицах каких-нибудь дельцов, когда, встретившись в улочке, складывают они свои зонтики – знак почтения, как у европейцев снимание шляп. И у офицеров в их белых и алых нарядах, и у седых пашей с одним или несколькими бунчуками, и у юных пажей в зеленых платьях.
Земные помыслы не только на земле. Они владеют и людьми морей. Поглядели б вы на купеческие суда у галатской набережной! Рядами, рядами, любой флаг увидишь. Изо всех судов тотчас отличишь средиземноморские. Отчего? Да оттого, что и турки, и греки, и алжирцы, и далматинцы, будь то на ходу, будь то на якоре, работая корабельные работы, пособляют себе всякого рода припевками. А «певчие-то» не кастраты – голосины как дубины. А в регентах у них не старичок-дьячок, нет, бури, ветры, штормы. Двадцать – тридцать работников-«певчих» та-ак голосят, что и труба иерихонская прозвучала б свирелью.
А стамбульские лодочники? О, это племя достойно пристального внимания. Особенно ежели ты моряк, ценящий лихость, стать, сноровку. Да-а, доложу вам, стамбульские лодочники… Вот ты идешь к пристани. Там поджидают каики. Почтенный староста пристани, оставив дымящуюся трубку, встречает тебя… Но постойте. Что ж такое каики?
Вообразите эдакие рыбищи от тридцати до шестидесяти футов длины. Не вовсе плоскодонные, они сидят неглубоко, вздымая черные борта. Ты умащиваешься в каике (осторожно, осторожно – каик опрокидывается, как душегубка!), и ты служишь вроде бы балластом. Седоки помещаются в центре, а гребцы на банках. Треть каика – его носовая часть; узкая и длинная, она заканчивается словно бы копьем. В сущности, носовая часть каика подобна балансиру лодок Южного океана – она тоже для остойчивости.
Делают каики из кленового или орехового дерева. В нем, то есть в этом дереве, не только легкость и прочность, но, так сказать, и природное изящество. Под резцом стамбульских ремесленников это изящество как бы выходит наружу в виде арабесок, тщательно и чисто выделанных.
Вообще-то, каики черны, как фигуры арапок на бушпритах кораблей Средиземного моря. Но вельможи разъезжают на белых, а то и вызолоченных. По числу гребцов, как по числу бунчуков у пашей, нетрудно определить, кто едет. Тремя гребцами располагают лишь очень богатые персоны или те, кто пользуется особенным благоволением дивана. А повелителя правоверных возят по Босфору двадцать шесть гребцов… Да, забыл сказать: есть еще и базар-каики. Это вроде бы дилижансов; они доставляют пассажиров из предместий…
Итак, староста указывает твой каик. Подходят гребцы; по-тамошнему зовут их – каикчи. Черт подери, что за ребята! Залюбуешься, да и только! Их движения выдают силу, сопряженную с грацией. У них на темени маленькие красные фесочки с синими кисточками; шелковая рубаха распахнута до пупа; белые шаровары засучены до колен. Вот и весь наряд. А что ж еще надо?
Работают они так, как ни на одном флоте гребцы не работают. Весла у них короткие, с широкими лопастями; вода сразу вскипает как бешеная. Любо-дорого глядеть на каикчи: возьмут шибкий ритм и бьют, бьют, мерно бьют, точно машина какая, и будто не чувствуя напряжения. Только жилы, вздуваясь, оплетают их руки, грудь волосатая блестит от пота, щеки едва не лопаются от этого «уф», «уф». До тридцати с лишним ударов в минуту дают каикчи. Ну и каик – стрелою, молнией! Против течения, против ветра идучи, гонят, стервецы, по семь-восемь миль. И так, представьте, не один часик, нет – два, три, четыре кряду.
А вокруг такая синь, такой блеск! Летишь, ничего не чувствуешь, кроме скорости. И она, скорость-то, чудится синей и блещущей, как сам этот Босфор. Летишь мимо других таких же гонцов, мимо отмелей, обозначенных красными вехами, на которых белые чайки. Хорошо! Да, а на чаек там строгий запрет – не смей стрелять чаек. И на дельфинов запрет. Правильный запрет, ибо дельфины – наилучшая прелесть морей.
А утро на Босфоре? Чудо, когда легонький туманец и небо в нежной пестроте. Вечером другое. Вечером, катаясь на каике, видишь тысячи рыбарей. Удят они с той флегмой, с тем терпением, какие, сдается, присущи одним туркам. А в кофейнях сумерничают, слушая сказочников. Сказочники сказывают любовные истории, и непременно волшебники… Вечером тихо в Константинополе: огни, табаком пахнет. И луна. Верно говорят, что тамошняя луна ярче лондонского солнца и, уж конечно, намного теплее: она греет воображение…
Пестрые видения доносил к Сенявину ветер проливов. И многое припоминалось Дмитрию Николаевичу. Но он ждал еще одного «видения»: парусов и мачт вражеского флота. И потому главнокомандующий не мог не думать об этом флоте, с которым хотел помериться силами.
Военный флот Турции уже не был таким, каким встречал его Сенявин на Черном море в екатерининские времена. Султан Селим III не слишком преуспевал в деле внутренних реформ, но преобразовал вооруженные силы империи, особенно флот. Собственно, не он, Селим, а его капудан-паша Кючюк Хусейн.
Судьба Кючюк Хусейна необычна. По рождению грузин, он совсем зеленым угодил в турецкое рабство. Селим его заметил и приветил. Грузин был человеком даровитым. Сделавшись адмиралом, он не стал кейфовать на мягких подушках, покуривая кальян и потягивая шербет.
Кючюк Хусейн пресек хищения казенных денег и припасов. Христос изгнал торговцев из храма, а он – с кораблей, где лавочники гнездились со своими лавками. Затем пригласил иностранных кораблестроителей. Появились и турецкие «мастера доброй пропорции». Именно о турках-судостроителях сообщалось в русской дипломатической депеше: «Следует восхищаться успехами, которые они проявляют в этом искусстве».
А другая депеша извещала (как раз когда Сенявин был в Адриатике), что турки создали «флот, который и по устройству и по красоте кораблей может быть приравнен к флотам народов, наиболее ревностных в этом отношении».
В пору появления Сенявина у Дарданелл Селим держал двадцать три линейных корабля, двадцать фрегатов, свыше шестидесяти корветов и бомбардирских судов, шлюпов и галер.
Русский моряк, видевший эти эскадры, подтвердил мнение дипломата-наблюдателя: «Турецкий флот очень красив; корабли хорошо ходят, вооружение порядочное, управление кораблями, к удивлению, довольно хорошо». И еще одно подтверждение: «Я рассматривал турецкое кораблестроение и арсенал. И то и другое в удивительном порядке», – писал офицер Краснокутский, посетивший Стамбул в восемьсот восьмом году.
Следовало отдать должное и личному составу. Сенявин вовсе не считал турецких моряков трусами. Он с ними сражался и мог засвидетельствовать их упорство. К тому же Сенявин, конечно, знал случай, когда турецкие матросы (быть может, бывшие стамбульские каикчи) доказали свою храбрость… под русским знаменем.
«Князь Потемкин. – писал мемуарист, – при взятии Очакова взял также в плен целую флотилию, стоявшую по причине льдов в заливе… Сии турки отправлены были в Петербург. Екатерина II за недостатком людей послала их на гребной флот действовать против шведов в качестве матросов. По окончании сражения, в котором и они действовали с довольною храбростью, увидали они, что всем нижним чинам выданы были медали, а им вместо того только по серебряному рублю. Они были крайне недовольны этим и просили, чтобы и им даны были знаки отличия. Екатерина прислала им челенги, или серебряные перья, с надписью „За храбрость“ для ношения на чалмах, потому что они и в нашей службе одеты были по-турецки».
Создавая новый флот, Кючюк Хусейн создавал и новые флотские экипажи. Внешне матросы были прежними: небольшая чалма; короткая, подпоясанная кушаком куртка; шаровары по колено и башмаки на босу ногу. Но, так сказать, внутренне они несколько переменились. Выучкой еще не сравнялись с русскими или английскими, однако уж не смахивали на «плавучую толпу».
Щеголь, тогда еще не плешивый, в последний раз мелькнул перед нами в одном узеньком мундирчике, хотя на дворе стояла январская стужа: щегольнул на крещенском параде.
После Прейсиш-Эйлау, этой, по энергичному определению Наполеона, «резне», Александр наградил Беннигсена орденом Андрея Первозванного, которого удостаивался редкий из верноподданных, но зато еще в колыбели удостаивался каждый молокосос из царствующей фамилии.