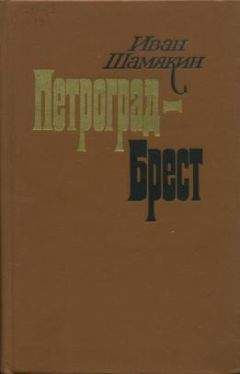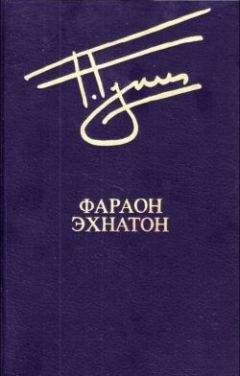Знала, что он командир полка, и по простоте своей и неграмотности считала, наверное, что к такому высокому чину приходят сведения о солдатах всего огромного фронта.
Женщина смотрела на него со страхом и надеждой.
Богуновичу стало неловко.
— К сожалению, я ничего не знаю про вашего Гришу. Дайте его последний адрес. Попытаюсь выяснить.
Хозяйка бросилась в угол к столу, вскочила на лавку и достала из-за иконы завернутые в старый платок бумаги.
Он смотрел, как лихорадочно, стоя на лавке под иконами — ни дать ни взять статуя мадонны, — она зубами развязывала узелок на платочке, как дрожали ее руки, когда она среди солдатских писем искала самое последнее. Богуновичу стало нестерпимо стыдно, что из-за своей деликатности он так жестоко солгал несчастной солдатке. Он, фронтовой офицер, хорошо знал, как отвечали даже в первый год войны на запросы семей о пропавших без вести или попавших в плен. В лучшем случае — отпиской. А теперь, когда все развалилось, все дезорганизовано — штабы, полевые почты, — это абсолютно безнадежное дело. Он может написать. Нет, он обязательно напишет — не посмеет еще раз обмануть! Но это будет письмо «на деревню дедушке».
Женщина соскочила с лавки, дрожащей рукой протянула ему письмо.
Богунович похлопал себя по карману, забыв, что подарил карандаш мальчику. Обратился к Янке:
— Дай, пожалуйста, карандаш. Не бойся, я запишу адрес и верну.
— Уже выцыганил? Ну, погоди у меня!
— Нет-нет, я ему подарил.
Богунович записал номер полевой почты, фамилию, имя: Сухой Григорий Матвеевич.
Вернув женщине письмо, а мальчику карандаш, виновато сказал:
— Простите, я пойду.
— Но… паночек что-то хотел?
Конечно, просто так, без нужды, он не стал бы ходить по домам, это она, практичная крестьянка, хорошо понимала.
Богунович доверчиво посмотрел женщине в глаза.
— У нас заболел товарищ… тяжело. Доктор прописал молоко и мед, — про масло не отважился сказать. — Вы не посоветуете… у кого можно купить?
Лицо ее вдруг расплылось от сочувствия, доброты и глубоко затаенной лукавой улыбки — догадалась, для какого «товарища» командир лично ищет молоко и мед: о его отношениях с Мирой в селе не могли не знать, особенно женщины.
Молодая солдатка по-старушечьи всплеснула ладонями.
— Ой, паночек! Где же вы купите? Разве у нас так рано телятся коровы? А мед… У кого он, мед, теперь? Солдаты диких пчел повыкурили из-за меду, — смутилась, что так говорит про солдат, повернулась к старшей дочери, как бы спрашивая совета у нее: — Разве что у Киловатого? Хотя нет… к нему не ходите. У него сына под Новый год застрелили ваши. А второго посадили. Старик как зверь. Пьет.
Сыновей кулака выследили не солдаты полка — свои, крестьяне, из отряда Рудковского. Не обошлось без стрельбы. Немцы заявляли протест: дескать, русские нарушают перемирие. Пришлось писать объяснение штабу фронта.
Солдатка вышла вслед за Богуновичем во двор так же легко одетая, только платок накинула. Очень ей хотелось помочь ему. Называла людей, у которых стоит поспрашивать.
— Меду у старого Шкеля спросите… Как назад пойдете — за мостиком слева. Около его хаты две липы. Он богатый, но добрый. Не такой волк, как Киловатый… Только коровы у него не могли отелиться. Ой, паночек! — уже на улице вспомнила женщина. — А вы в коммуне спросите. В имении коровы рано телятся. Голландки. Коров немного осталось, но какая-нибудь могла отелиться.
— Спасибо вам. Не стойте так. Холодно.
— А лихо нас не возьмет, паночек. Баба — что собака.
— Не нужно мне говорить «паночек». Какой я пан?
Женщина тепло улыбнулась.
— Меня Галька в бок толкала, что так теперь не говорят. Дети учат. Так привычка же, товарищ…
Чтобы закрепить это «товарищ» в ее сознании, Богунович протянул ей на прощание руку. Перед тем как подать ему свою, солдатка вытерла ее о фартук.
О коммуне он подумал в самом начале, еще там, в доме начальника станции, у Мириной кровати. Но ему уже трижды пришлось обращаться к Рудковскому, когда совсем пустел полковой склад: ни хлеба, ни картошки, ни капусты. В том, что полк остался боевой единицей, хотя всего с третью штатного состава, была, считал командир, не его заслуга и даже не полкового комитета, а матроса Рудковского, старого веселого крестьянина Калачика и, возможно, таких вот солдаток, как эта Григорьиха, которые от своих детей отрывают, чтобы накормить солдат.
Поэтому попросить у Рудковского молока он не мог. А вдруг не поймет матрос и высмеет. Дети голодают, а он хочет любовницу молоком поить.
Перед новым, на четыре окна, под жестью домом Шкеля постоял, но зайти не отважился. Как объясняться с богатым хозяином? К такому лучше послать казака, который мог бы сказать; продайте меду для командира полка. Перед кулаками действительно не нужно ронять достоинство, чтобы не злорадствовали: вот до чего довела вас революция! Революцию он никому не позволит оплевывать, как бы плохо ни было не только ему лично, но и Мире, матери, отцу, сестре, солдатам. Не сказать, конечно, что он сам совершал ее, революцию, но принял разумом, сердцем, поверил в большевистские принципы свободы, равенства, братства. Февральская революция ненадолго побратала его с солдатами. А потом его снова принудили гнать их в атаку, на немецкие пулеметы, и ему было стыдно перед ними, гадко на душе; чтобы хоть как-то оправдаться, он сам впереди всех лез на эти пулеметы, искал смерти. Смерть пощадила его. Теперь ему, как никогда, хочется жить, даже страшно делается от жажды жизни. Хочется любить, окончить университет, учить детей, растить своих.
Богунович решил зайти еще в одну середняцкую избу, во дворе которой прогуливались корова и телка.
Тут ему повезло. Из избы вышла Стася. Увидела его — и глаза ее загорелись, как у кошки, заметившей мышь и решившей позабавляться с ней. Весело засмеялась:
— День добрый, товарищ командир. Что это вас в такой мороз погнало гулять? Чего вы ищете? Хату для постоя солдат?
— Молоко ищу.
— Что? — удивилась Стася, даже исчез в глазах игривый блеск. — Молоко? Какое молоко?
— Коровье. — Ему почему-то захотелось сказать всю правду. — Тяжело заболела моя жена…
— Жена? У вас есть жена?
— Есть.
— Эта та маленькая… агитаторша?
— Та самая.
— Где же вы повенчались? В какой церкви?
— Разве, чтобы соединиться двум людям, нужны обязательно поп и кадило? Мало для этого любви?
Теперь она смотрела на него совсем серьезно и уже с каким-то другим удивлением.
— А мне говорили, что вы не большевик. Это же большевики в бога не верят.
— А вы верите?
Стася грустно засмеялась и сказала о другом — о своем, женском:
— Я верила, что соблазню вас. Вы мне нравились, — призналась, смутилась: — Ох, что это вы делаете со мной?
— Ничего я с вами не делаю. Я был бы вам благодарен, если бы вы помогли мне купить молока.
— Вам не стыдно ходить по хатам?
Сергей на миг задумался: что ей ответить?
— Вы знаете, Стася, ничуть не стыдно. Когда близкому человеку плохо — для него сделаешь все. И сделать хочется именно самому. Вам не знакомо такое?
Стася вдруг закрыла лицо красными варежками-самовязками.
Богуновичу показалось, что она плачет. Понимал почему: пожалел, что так неосторожно напомнил о ее вдовьей судьбе, но утешать не стал.
Она вытерла глаза варежками, вздохнула:
— Боже, как давно это было! Я завидую вашей жене. Счастливая она.
— Это я счастливый.
— Но все равно сами не ходите. Оговорят бабы. Почему вы не пришли к нам? В коммуне еще не всех коров запустили. Запустим — детям молока не будет. — Она криво усмехнулась над коммунарскими порядками.
Богунович снова признался с неожиданной для себя откровенностью:
— Мне придется просить у Рудковского хлеб и картошку для солдат. В который раз.
Стася сказала жестко:
— Сидит в вас панское. Трудно вам попросить у мужика. Не верите, что у мужика тоже есть сердце.
Ему стало неловко.
— Что вы!
— Ну вот что, товарищ командир. Идите занимайтесь своими делами. Молока вашей…
— Мире, — подсказал он.
— …вашей Мире я сама принесу. Меня, правда, не любит пани начальница. Набрехали ей, будто, пока она была в беженцах, я крутила с ее Пятрасом. Вот же языки! Не верьте. Очень мне нужен ее лысый литвин! Какой из него мужчина! Старый дед. Ну, с Альжбетой я договорюсь. Будет повод потолковать по душам. Так что идите лучше учить наших стрелять из пулемета.
Богунович не знал, как благодарить.
Стася отмахнулась от его благодарностей: мол, панские штучки! Но, чувствовалось, по улице шла с ним не без гордости: поглядывала на окна и, видимо, жалела, что сквозь замерзшие стекла немногие увидят, как она гуляет с командиром полка.