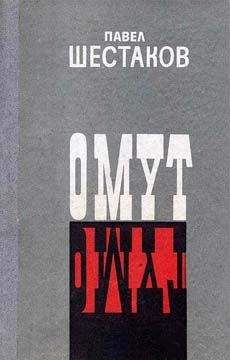Когда все кончилось, в полку много говорили о выдержке, которую он проявил, подпустив противника почти вплотную. На самом деле он лежал и смотрел на серо-зеленую немецкую цепь, точно кролик на удава. Удав неумолимо приближался, а он лежал в оцепенении, несмотря на то что отлично слышал команду. Да и как ее было не слышать, когда это не команда уже была, а сплошной разъяренный мат.
— Да стреляй же ты, проклятый стервец! Мать твою!..
А немцы, заметив, что именно здесь, на пологом склоне огонь не такой плотный, инстинктивно сбивались прямо под направленный на них ствол, заключенный в гладкий кожух, наполненный водой из ближнего болотца.
И тут Слава, собрав последние силы в руках, сжимавших одетые деревом рукоятки, двинул вперед большие пальцы… Пулемет загрохотал, торопливо втягивая ленту, которую держал на весу второй номер, и на землю хлынул дождь раскаленных гильз. Пуль он не видел. Потом ему казалось, что длилось это очень долго, хотя все двести пятьдесят патронов, уложенные в ленту, были выстрелены меньше чем за минуту одной непрерывной очередью…
После боя над позициями обеих сторон подняли белые флаги, и похоронные команды вышли на поле, чтобы забрать своих павших, — еще соблюдались обычаи прошлых войн. Он видел, как немцы с носилками столпились там, где он лежал накануне. Он стал считать, но после восемнадцати бросил, получалось, что на каждый прожитый им год жизни уже пришлось больше чем по одному убитому им человеку.
Однако это была только арифметика. Убийцей он себя не чувствовал. Убийца был Раскольников, который с топором под мышкой стоял у двери старухи-процентщицы. А он был солдат, хороший солдат, заслуживший всеобщее одобрение смелостью и выдержкой и представленный к награде. Он не знал еще, что намного превзойдет Раскольникова. Правда, он никогда и никого не убил топором или вообще холодным оружием. С того случая на трамвайной линии он терпеть не мог крови.
На войну Слава попал почти одновременно с Юрием. Обоих подтолкнула любовь. Но если Таня так горько и беспощадно корила себя за то, что Юрий оказался на фронте по ее вине, то Надя о своей роли и не подозревала.
«Вы охладели ко мне. Почему? Я ничего не понимаю. Нам необходимо объясниться!»
Так она писала ему почти в отчаянии.
Но что он мог объяснить? Сказать, что увидел ее перепуганной и потому решил, что она глупа, зла и труслива? Нет, в то время он еще не мог так открыто и жестоко оскорбить даже неумного человека. Он поступал, как и многие в подобных случаях, — уклонялся от встреч. А она, ничего не понимая, всячески их добивалась.
В один прекрасный день это ему надоело…
Между тем война ширилась, и вскоре, чтобы проливать человеческую кровь, уже не нужно было ехать в составе маршевой роты далеко на запад. С февраля по октябрь семнадцатого года в России произошел великий разлом. Главное в этих месяцах — выбор будущего. В феврале революцию приветствовали почти все. И Славу она привлекла, хотя и меньше, чем остальных. Свержение царя лично ему ничего не давало, к положению низов он был равнодушен, к политическим свободам относился скептически, как и к политике вообще, и даже война, на которую он попал совсем недавно, не успела еще надоесть — пока она приносила награды, а за собственную жизнь он, как и большинство молодых людей, опасался гораздо меньше, чем взрослые, несущие семейное бремя.
Зато Слава сразу, еще в феврале, когда толпы людей братались и ходили с полотнищами, на которых было написано: «Мир народам», уловил в воздухе не весенние сладкие ароматы, а острый, волнующий запах пороха и крови. Глубоко и верно почувствовал он, что не мир, но меч несет эта пахнущая фиалками весна, и порадовался, сам еще не зная чему. Чувствовал только — открываются невероятные доселе возможности, начинается ломка общества, на пороге время, личности, сверхчеловека.
Нет, его не влекла власть над людьми. «Лев, ведущий стадо баранов, уже не лев, а всего лишь главный баран», — говорил он, перефразируя Наполеона и твердо полагая людей баранами. Баранами за то, что побежали на убой, услыхав об убийстве эрцгерцога, — мало ли их, принцев, в царствующих домах!
Баранами потому, что ходят теперь кучами и выкрикивают несбыточные, противоречащие самой природе лозунги.
Особенно раздражал его лозунг о равенстве, оскорблял лично, ибо представить, что другие могут быть ему равны, просто не мог.
Однако и те, кто хотел загнать «баранов» снова на скотный двор, тоже не вызывали в нем симпатии. Он делил их на две категории — жаб и идиотов. Жабами считал тех, кто, вцепившись в свои заводы, имения, привилегии, готовы душить каждого покусившегося, а идиотами — верующих в свободы, Учредительное собрание и прочую чушь.
Ему нужна была только собственная свобода, и когда восторжествовала стихия и повалил народ с фронта, ушел и Слава с двумя револьверами за поясом, которые заменил вскоре на пистолеты. Браунинги он предпочел наганам потому, что были они плоскими, не выпирали барабаны, и носить их было сподручнее под мышками, на самостоятельно скроенной портупее.
В смутные дни поздней осени в Петрограде Слава впервые вошел в дом людей, которых считал богатыми, и взял все ценное, что мог унести в карманах. Громоздкое было ни к чему, он собирался в трудный путь на юг. В Питере уже ощущалась власть крутая, а в родных местах было еще вольно…
С тех пор прошло почти четыре года.
Но вот питерским колючим ветерком повеяло и нынешнее жаркое лето. А «сподвижники», слабоумные живодеры, хотят ветер остановить. Ну что ж… Пока вихрь будет выкорчевывать Бессмертного и иже с ним, Техник поставит свои паруса. Ведь ветер не только разрушает, он и корабли ведет.
Так думал Техник, идя запущенной дорожкой после встречи с «соратниками». Дорожка была той самой аллеей, где некогда упала Надя. Теперь тут и пешком идти было трудно. Трамвай, что останавливался поблизости, давно не работал. Было безлюдно и тихо.
«А что, если бы она не упала? Если бы меня не понесло на фронт?.. Фу, какая ерунда! А если бы войны не было?.. Чушь! Человек должен испытать все. И убить кого-нибудь хоть один раз. Знать, на что способен. Ничего не бояться. Я прошел все и теперь знаю меру своих сил. И могу сделать последнюю ставку и взять ее. А потом — к неграм. На острова. К дикарям, к рабам… Все будет в порядке. А началось здесь… ну что ж, спасибо, Надя!»
И тут он подумал о Софи.
Подумал и, перешагнув через заброшенные рельсы, пошел туда, где мог ее увидеть.
* * *
Софи жила в глинобитной, почти хуторской мазанке под камышовой крышей, на подворье, где лепились еще два таких же неказистых домика, один — хозяйский, другой, как и хатенка Софи, сдавался жильцам. Низкорослые, все они вросли в землю, и Технику пришлось опуститься на ступеньку и даже нагнуть голову, хотя был он и невысок, чтобы войти в комнату.
Он ожидал, что попадет в сырой полумрак, но в самом жилище, несмотря на маленькие окошки, было сухо и светло. Щедрое южное солнце, перевалив уже на запад, стояло прямо перед окнами, высвечивая белизну недавно побеленных стен и такие же светлые занавески и покрывало на узенькой коечке, какие раньше называли девичьими. Было очень чисто и тщательно прибрано.
— Как у вас, однако, — сказал Техник, оглядываясь, — тут… стерильно.
— Что случилось? — спросила она в ответ.
— Ничего особенного. Пока.
— Зачем же вы пришли?
— Разве это запрещено?
— Это неосторожно. Я говорила, кажется…
— Говорили. Но если бы я был всегда осторожен, поверьте, меня бы давно не было на свете.
— Риск должен быть оправдан. А вы сами говорите, что ничего не случилось.
— А если мне просто захотелось повидать вас?
— Надеюсь, вы шутите.
— Почему?
— Потому что идет четвертый после революции год.
— И был декрет, отменяющий чувства?
— В таком декрете нет необходимости. За это время чувства иссякли сами по себе.
— Может быть, не у всех…
Софи окинула его взглядом, каким смотрела обычно на тяжелобольных или тяжелораненых.
— Не смотрите на меня так. Я не сумасшедший.
— Тогда объясните свой странный поступок.
— Я ведь преступник.
— Вы, кажется, называли себя «налет».
— Дело не в словах. Я граблю и убиваю. Значит, я преступник. Я честен. Я не какой-нибудь псих Сажень, который величает себя идейным экспроприатором. Да вы и сами считаете меня бандитом. Разве не так?
— Я пока вас не поняла.
— А между тем это просто. Разве вам неизвестно, что преступники часто бывают сентиментальны?
— В вас я этого не замечала.
— Люди плохо знают друг друга, плохо видят, очень плохо понимают.
Она покачала головой:
— Вы сегодня не в своей тарелке.
— Разрешите мне присесть?
Техник все еще стоял посредине комнаты.
— Ах, простите. Садитесь, конечно. Прошу.