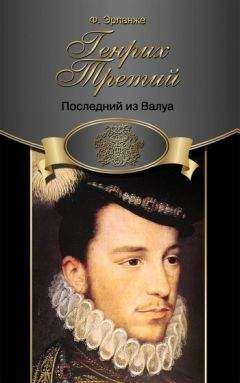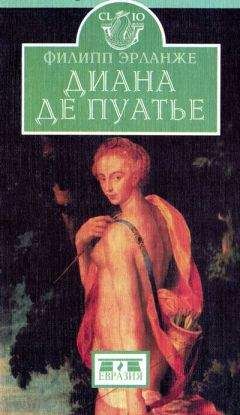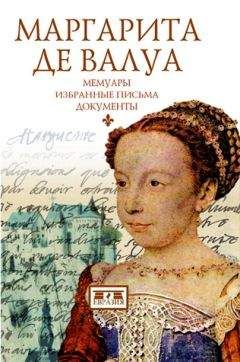В свои тридцать шесть лет Людовик де Беранже, месье Дю Гаст, недавно назначенный полковником королевской стражи, был типичным представителем эпохи, надменным дуэлянтом и искателем легкой удачи.
Он любил почести и деньги, жестокость его временами доходила до зверства, а в интригах ему не было равных. Однако он обладал незаурядным умом, безграничной энергией и слепой привязанностью к своему господину. Его властный вид производил неотразимое впечатление на женщин. Так родился этот странный триумвират – Генрих, Екатерина Медичи и Дю Гаст. Тем не менее юный монарх намеревался править самостоятельно.
Королева Наваррская затаила зло против фаворита, который, оставаясь в Париже, пока Генрих был в Польше, сообщил ему о том, как Маргарита предала короля. Обеспокоенный этой враждебностью, Генрих просит своего друга наладить отношения с грозной «прелестницей». Но напрасно Дю Гаст старается ее улестить: Марго выпроваживает фаворита, клянясь, что она всегда будет его «заклятым врагом». Ответный удар не заставил себя ждать.
У Маргариты, которая как жена короля Наваррского и сестра герцога Алансонского объединяла протестантов и партию Политиков, развивался в этот момент бурный роман с подопечным герцога Гиза, Шарлем де Бальзак д’Антраг, которого все звали просто Антраг. И вот однажды король, прогуливаясь со своим зятем, словно случайно проходит около дома, где жил этот придворный – у двери стояла карета Маргариты.
«Бог мой! – воскликнул Генрих, поворачиваясь к королю Наваррскому. – Там внутри твоя жена!»
И не слушая протестов Беарнца, приказывает одному из своих офицеров осмотреть помещение. Тот вскоре вернулся с разочарованным видом: «Птички улетели, – сказал он, – но они там были».
Король тут же рассказал все Екатерине, и на следующий день она устроила Маргарите страшный нагоняй. Однако королева Наваррская не растерялась: ее карета стояла там потому, что она поехала на службу в монастырь, расположенный как раз напротив дома д Антрага. Генрих почувствовал угрызения совести, а Маргарита потребовала отставки Дю Гаста, который «только сеет ненависть и раздор». Королева-мать всех успокоила, заставила своих детей сделать вид, что они помирились, но с этой поры их взаимная ненависть не будет знать ни передышки, ни жалости.
Однако эти мелкие семейные неурядицы отнюдь не поглощали короля целиком – после приезда из Лиона он сразу же занялся изменениями в правительстве. Малый совет, чрезвычайно разросшийся в последнее время, был сокращен до восьми человек; текущими делами занимались Бираг, Шеверни и Бельевр.
Государственным секретарям, взявшим на себя слишком большую самостоятельность, было сделано внушение: отныне признавались действительными только распоряжения, подписанные собственноручно королем.
Все эти меры были превосходны. Люди видели, что король полностью забирает власть в свои руки. Вместе с тем в штыки было встречено введение новых правил, касающихся королевской аудиенции, церемонии пробуждения и отхода ко сну его величества. Дворяне, привыкшие набиваться в королевские покои, как им заблагорассудится, и обращаться к королю со своими просьбами во время ужина, расценили новый дворцовый этикет как «дикие сарматские нравы».
Министры, оставшиеся на своих постах, все были людьми опытными и рассудительными: епископы Раданса и Лиможа считались лучшими дипломатами своего времени, всем была известна честность Пибрака и способности Бельевра, а канцлер Бираг, несмотря на свое итальянское происхождение, в спорном вопросе о Пиньероле показал себя истинным патриотом. Таким образом никто не мог упрекнуть Генриха за выбранных им советников.
Никто не питал такого отвращения к войне, как Генрих, некогда бывший кумиром военных. Мысль о том, что страна может скатиться в кровавую бездну, наводила на него ужас, он уговаривает умеренных, устраивает в Ангулеме встречу, на которой католики и гугеноты пытаются найти точки соприкосновения. Но эта благородная попытка была сорвана непримиримостью обеих партий. Надо было выигрывать время или решаться на войну.
Чтобы разрешить эту трагическую дилемму, в Лионе был созван чрезвычайный конгресс. Екатерина Медичи приехала на него в смятенных чувствах: перехватив письмо Генриха к Марии Конде, она узнала о матримониальных планах своего сына.
Для нее это был тяжелый удар. Стареющая королева могла смириться с ограничением собственной власти, но она не могла себе представить, что ее сын, которого она боготворила, будет принадлежать другой женщине, что ее материнский авторитет, а может быть, и политическое влияние перейдут к сопернице. Она разлучит короля с его любовницей, пусть даже ценой народных бедствий!
И когда Пибрак и Поль де Фуа предлагали на совете меры, которые вели к примирению, королева-мать, ко всеобщему изумлению, резко изменила свое обычное поведение. Она яростно боролась против мира, напоминая о военной славе Генриха, говорила о том, что любое промедление на руку гугенотам, ожидавшим поддержки из Германии, призывала уничтожить мятежников. Она пошла еще дальше, уверяя, что Дофине тут же сдастся, если туда войдут войска, во главе которых будет сам король. Никто не осмелился противоречить королеве-матери – вопрос о войне был решен.
Это был жест отчаяния, бессмысленный, как все жесты отчаяния, – 30 октября Мария де Конде родила на свет девочку и в тот же день умерла. Никто не осмеливался сообщить королю эту новость, и было решено положить роковое письмо с известием среди государственных бумаг. На следующее утро, когда Генрих сел за свой рабочий стол, он увидел эту бумагу. На минуту он застыл, потеряв дар речи. Потом лицо его стало бледнеть, приобретая пепельный оттенок, он взмахнул руками и упал на пол, потеряв сознание. Потребовалась по крайней мере четверть часа, чтобы вернуть его к жизни.
И тогда его боль бурей вырвалась наружу. Забыв обо всех приличиях, он бился головой о стены, заливался слезами, оглашал дворец нечеловеческими воплями. Он оплакивал не только прекрасное создание, что так недолго было с ним: вместе с Марией де Конде в его душе умерла молодость, испарились надежды на простое человеческое счастье.
Когда схлынула первая волна горя, Генрих погрузился в состояние прострации, из которого короля не могли вывести ни мать, ни друзья. Удалось это сделать духовнику, иезуиту отцу Оже.
Никто так, как он, не знал все струны королевской души. И он советует Генриху: чтобы справиться с этим горем, надо найти способ выразить его. Несчастный, выйдя из своего состояния, тут же приказывает провести в память Марии траурные церемонии, всем придворным – надеть траур, часовым – черные повязки. Каждое утро теперь он проводил с портными, прикидывая на манекенах различные детали туалета, отражающие его душевное состояние. Однажды его видели в камзоле, расшитом миниатюрными изображениями смерти. Очень много времени он проводил в церквях и монастырях, часами молился, поражая всех такой набожностью.
Данвиль 4 ноября обнародовал манифест, в котором потребовал от короля ввести свободу отправления протестантских культов и уволить всех итальянских советников короля. После чего он хладнокровно созывает в Монпелье Штаты Лангедока. Еще никогда ни один подданный не бросал королю такого вызова, за которым неизбежно следовала гражданская война.
Генрих ответил, предложив тем же Штатам собраться в Авиньоне. Выбор этого города означал для него опасное путешествие по мятежным областям страны, где восставшие контролировали все дороги, сжигали замки – страна возвращалась в Х-й век.
Желая избежать опасных столкновений, двор решает отправиться водным путем и спускается по Роне на двух кораблях, уставленных пушками. Единственным происшествием за все путешествие была потеря багажа королевы Наваррской.
Открывая заседание Штатов в церкви Шартрё в Виленёв-лез-Авиньон, Генрих произносит блистательную речь.
У него от природы был богатый дар красноречия: немногие ораторы того времени могли так, как он, подчинить себе аудиторию.
Увы! Четыре королевские армии, которым было поручено остановить мятежников, оказались не столь удачливы. Проведенная по всем правилам осада не заставила сдаться Ливрон, маленькую крепость, откуда гугеноты терроризировали все графство. Дофине был превращен в неприступную крепость, а Данвиль, чтобы еще больше досадить своему королю, развлекался, атакуя Сен-Жиль, что у самых стен Авиньона.
Эти унижения ожесточили Генриха. Всего за несколько недель судьба разрушила радужные надежды, которые он питал еще совсем недавно. Когда он выезжал из Кракова, впереди его ждали любовь, популярность, слава. Теперь возлюбленная его умерла, а подданные наносили ему оскорбление за оскорблением. Под бременем этих горьких размышлений он становился вялым, неразговорчивым, неврастеничным. Отец Оже еще раз попытался вернуть его к жизни во славу Божью.