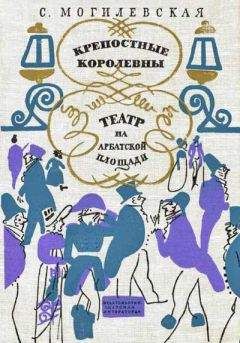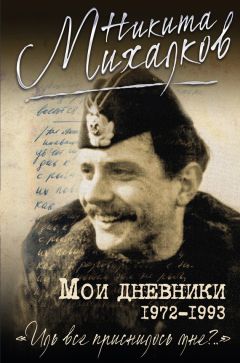А в Арбатском театре каждый вечер по-прежнему шли спектакли, хотя публики на эти спектакли приходило все меньше и меньше. Оперы с трагедиями уже не ставились, о чем в своих донесениях в Петербург уведомлял Майков.
«При настоящих обстоятельствах, — писал он главному директору императорских театров Нарышкину, — все дворянство и лучшее купечество выезжают из Москвы в разные города. Посему певчие, составляющие хор в театре и принадлежавшие разным господам, отправляются по воле их из Москвы в другие места, отчего все оперы, трагедии и другие пьесы, где они употреблялись, не могут идти…»
19 августа Майков отправил в Петербург Нарышкину тревожное письмо:
«…Казенные места, как-то: Ломбард, Мастерские и Оружейная палата, Казначейство и проч., укладываются и отправляются из Москвы. Вследствие этого, долгом поставлю просить Ваше Высокопревосходительство, не благоугодно ли будет предписать, чтобы, в случае ежели сверх всех ожиданий не воспримут обстоятельства лучшего оборота и ежели будет неизбеяшая необходимость, отправился я вместе с конторой, школой, театральным гардеробом, казной и другим имуществом, которое поважнее, равно с артистами в С.-Петербург или в другой город, какой угодно назначить Вашему Высокопревосходительству, употребляя нужные на путь деньги из сумм, в театре состоящих».
Нарышкин с ответом не торопился.
Между тем французы подходили всё ближе и ближе. 30 августа они находились уже в трех днях пути от Москвы. В этот день в Арбатском театре был назначен очередной спектакль. Давалась драма Сергея Глинки «Наталья — боярская дочь».
Утром Степан Акимыч с Саней, как обычно по воскресным дням, были в церкви Трех святителей.
После отъезда Федора уже прошло более месяца. Санька, и желая того и не желая, думала о нем беспрестанно. Вот и сегодня, находясь в церкви, молилась, клала поклоны, крестилась, а в голове был только Федор. Где он теперь? Хорошо ли доехал с хозяйским добром? Довез ли хозяйку с дочками в тот город, куда был послан? Помнит ли о ней, о Саньке? А главное: скоро ли вернется, как обещался при разлуке?
Тоска снедала ее. Неужто так можно — чтобы один-единственный человек заслонил собой весь белый свет? И все, что делается вокруг, все кажется не таким, как при нем, когда он был рядом. Словно бы и солнце не так светит. И птицы не так поют. И небеса утратили свою синеву. И звезд стало поменьше на темном августовском небосводе.
«О господи, прости меня, грешную, что так полюбила я своего ненаглядного!..»
И все нее, тоскуя и думая о Федоре, ни разу Саня не пожалела, что не поддалась его уговорам, что не уехала с ним из Москвы, не покинула дедушку Акимыча… А когда на амвон вышел священник в лиловой бархатной скуфейке и стал произносить молитву о спасении России от вражеского нашествия, Саня, покосившись на Степана Акимыча, заметила, как по щеке его ползет медленная скупая слезинка.
И, увидев вдруг, какой он стал маленький, сухонький и старенький, чуть сама не заплакала. Еще раз мысленно поклялась себе, не покинет она дедушку ни за что и никогда.
И стала она повторять за священником слова молитвы, стараясь уже не думать ни о чем, кроме этой молитвы…
— Владыка господи! Услышь нас, молящихся тебе… — тихим старческим голосом говорил священник.
И Саня горячим шепотом стала за ним повторять:
— …услышь нас, молящихся тебе… восстани в помощь нашу… да постыдятся и посрамятся мыслящи нам зла… всех нас укрепи верою… утверди надеждою…
Когда, отстояв службу, Саня и Степан Акимыч вышли на наперть, солнце, не по-осеннему раскаленное, на мгновение ослепило их.
— Жарища-то какая! — сказала Саня и невольно прикрыла глаза, привыкшие к сумраку церкви.
По Арбату от Дорогомиловской заставы, скрипя колесами, непрерывным потоком медленно двигались повозки. А на них — раненые, раненые, раненые… С желтыми страдающими лицами, с кровью, запекшейся на грязных, наспех сделанных повязках.
— Отколь везут? — тихо спросила Саня.
— Из-под Можайска небось… — тоже тихо ответил Степан Акимыч.
— Да ведь, дедушка, Можайск-то… — Санино сердце тревожно Забилось. Можно ли было поверить, чтобы проклятый Бонапарт, изверг, окаянный антихрист, находится так недалеко от Москвы!..
И вдруг услышала далекий, очень далекий раскат. Неужто гром?
Да откуда грому быть? Ведь небо без единого облачка. Ведь сколько времени дождя не было — такого жаркого да сухого лета, говорят старики, давно не случалось.
О господи!.. В растерянности поглядела на дедушку Акимыча. И он на нее глянул. И по его глазам поняла, что вовсе это не гром небесный. Тогда что же?
А из сухого и пыльного марева, стоявшего над Смоленской дорогой, по которой тянулись и тянулись телеги, фуры, извозчики и шли пешие раненые, снова донесся очень далекий и еле ощутимый раскат…
Санька перекрестилась. Снова посмотрела на Степана Акимыча. Но тот на нее уже не смотрел. Молчал. Опустил голову.
А на углу, как им с Арбата повернуть на площадь, стояла толпа. Какой-то человек в гороховой шинели бравым голосом произносил слова одной из последних афишек Ростопчина. Доносился его голос:
— «Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы-тройчатки: француз не тяжеле снопа ржаного…»
В толпе засмеялись, а человек в гороховой шинели повторил:
— Так-то, братцы, всего лучше вилы-тройчатки! Не зря их сиятельство граф Ростопчин пишет: «…француз не тяжеле снопа ржаного…»
У Саньки повеселело на душе. Она усмехнулась. Представила себе, как она, Санька, поддевает вилами не то ржаной сноп, не то француза, который не тяжеле этого снопа…
— Вот ведь какие слова… — начала было Саня, но, посмотрев на Степана Акимыча, умолкла: он был все так же сумрачен и молчалив. Даже не верилось, что совсем недавно и он с упоением, вроде этого в гороховой шинели, читал каждую строку ростопчинских афишек и верил всему, что в них написано.
Пройдя еще несколько шагов, оборотился к Сане. Нахмурившись, сказал:
— Сударушка…
Но Саня понимала, о чем пойдет разговор, сердито его оборвала:
— Знаю, дедушка, о чем станете толковать! Только никуда я из Москвы не поеду! Никуда!.. Давеча говорила вам, дедушка, и опять говорю… Вот ведь какие слова пишет их сиятельство граф…
— Все вздор он пишет! — воскликнул Степан Акимыч. — Для дураков, для простофиль, для неучей… Правды ни на грош!
Снова у Сани оборвалось сердце. И покатилось куда-то в пятки, а может, еще подалее. Как же так? Неужто ни на грош правды?
А Степан Акимыч продолжал, но теперь уже не так запальчиво, поспокойнее:
— Прошу тебя, Санюшка, внемли моим словам… Уезжай! Со дня на день Аполлон Александрович ждет указания из Санкт-Петербурга. Говорил — всех актеров и все театральное имущество будут увозить из Москвы. Кажись, в Ярославль.
В Ярославль? Где теперь Федя? Вмиг представила себе: идет по неведомому ей Ярославлю, а навстречу Федор. «Саня, ты?» — «А то кто же?» — «Саня, голубка моя…» Сколько радости ему и ей…
— А вы, дедушка?
— Нет, Санечка, мне из театра нельзя. Кто же в нем сторожем останется, коли и я уеду? Театр-то деревянный — тут одной искорки достанет, чтобы спалить дотла… Нет, я из театра никуда!
Теперь Санька молчала. Теперь она поникла головой. Все перемешалось в уме: и Федор, и Ярославль, и дедушка Акимыч, и театр, который от одной искорки может дотла сгореть, и те раскаты, какие доносились, хоть изредка, а все же доносились с той стороны, где находились французы со своим Бонапартом.
Потом, тряхнув головой, Санька поглядела сперва на Степана Акимыча, потом на театр, к которому они уже подходили.
— Нет, дедушка, и я никуда! Вместе будем в четыре глаза смотреть, чтобы искорка не запалила наш театр…
А театр стоял перед ними красивый, нарядный, окруженный белыми колоннами и сияя на ослепительном солнце белизной этих колонн.
Вечером 30 августа в театре шел последний спектакль. Публики было мало. Почти все ложи бенуара пустовали. Да и в партере были заняты немногие кресла. В райке хоть и шумел народ, но и там было куда просторнее обычного.
Неярко горели свечи и в люстре на потолке, и в настенных бра. Этот зал, такой всегда праздничный и нарядный, казался поблекшим и обветшалым.
В антрактах, когда все двери на улицу были распахнуты, чтобы хоть немного провеять духоту, ясно слышалась далекая канонада.
Актеры играли вяло, больше думали о том, что вот, дескать, из Санкт-Петербурга все не приходит да не приходит известие, чтобы покинуть Москву. А ведь надобно собраться. А время-то уходит. Как быть со всеми чадами и домочадцами? Да будут ли лошади, чтобы увезти хоть малую толику вещей, если предписание ехать все-таки прибудет?
И все-таки никто в тот вечер не мог себе представить, что спектакль 30 августа станет последним спектаклем в Арбатском театре…