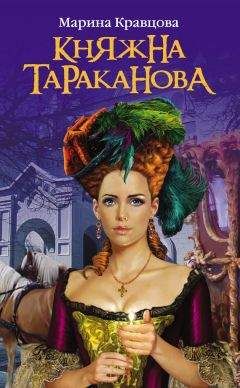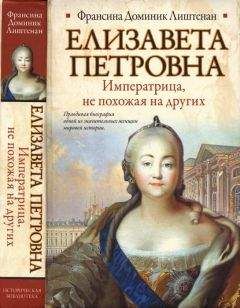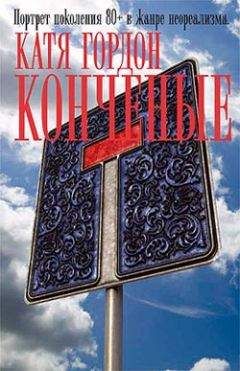– Чего ж это вы? – моргал он глазами. – Чего ж вы, барин?
Сергей вдруг тяжело расплакался.
– Что ж это вы сделали, звери, за что матушку мою с Анюточкой погубили? – простонал он. – Ничего от них, кроме добра, вы не видели!
– Грех большой, ваше высокоблагородие, только никто ж того не хотел. Мне и неведомо, как дом загорелся… Ох, одни головешки остались! Помню, пришли Ермиловы ребята, наши с ними столковались быстрехонько. Ермилко бумагу читал… Там все про государя Петра Федоровича было описано, и что он нам, мужикам, жалует волю вольную.
– Скоты, какой государь! У нас Екатерина царица.
– Катерина-то, оно так… да… Катерина… – Микола пожевал губами и произнес с какой-то особой даже нежностью. – А все одно он наш, государь-батюшка… Наш царь… Мужицкий.
Молчание.
– Пришел зачем? – наконец отрывисто бросил Сергей.
– Да как же, батюшка, не оставлять же мне вас, господина мово природного, Ермиловым ребятам на расправу?
– Пожалел! – усмехнулся Сергей. – Лучше б мать мою спас!
– Сергей Александрович, да кабы знал, кабы мог… А вам-то… Вам почто пропадать? Завтра ж с зорькой вновь за вас примутся, насмерть запытают! Верит Ермила Тимофеевич, что ты, батюшка, от врагов к нам прислан.
– Да плевал я на вас и Ермилу вашего окаянного! – закричал Ошеров.
– Так не говорите, ваше высокоблагородие. Я вот вам винца принес глотнуть, да хлебца в дорогу. Вот и конь за дверью ждет. Да города-то недалеко. Выдюжите?
Сергей помолчал.
– А хватятся меня поутру? – спросил. – Заподозрят тебя, ты уж при всех за меня заступался. Не подумал? Не боишься?
– Да чего там. Пронесет, авось. Вы уж поспешайте, барин! Все боюсь я, сможете ли дорогу одолеть?
– Смогу. Я все смогу. Помоги на ноги встать.
Микола поддержал его за локоть. Поднявшись, Сергей почувствовал сильное головокружение. Глотнул вина, немного оправился.
За дверью его действительно ждал конь. Микола подсадил барина в седло.
– С Богом, Сергей Александрович, держитесь!
– Спасибо тебе, – поблагодарил Сергей, поворачивая коня.
– С Богом, батюшка, – повторил Микола, – уж в другой раз себя берегите.
И перекрестил его издали…
…Возле ворот Сергея сняли с седла, полубесчувственного, стонущего от боли. Бросились доложить коменданту.
– Ах ты, опять, никак, эти тати окаянные бесчинствуют! – охнул комендант. – Что поделаешь! Дожили до «счастливых» деньков! Ох, пронеси, Богородица…
Сергей уже входил к нему, поддерживаемый молодым солдатом из гарнизона. Он с трудом поклонился коменданту, откинул черную прядь, упавшую на глаза.
– Ваше превосходительство! Разбойники гнездо свили в Васильевке. Пошлите людей, сударь, выбейте их…
– Ох, братец вы мой, – в отчаянии махнул рукой комендант. – Мне сие ведомо! Да делать нечего, мы и так словно на бочке пороховой сидим. Не приведи Господь к нам кто-нибудь из Пугачевых людишек, только-только и хватит сил, чтоб отбиться. Да и хватит ли? Нет, нельзя нам сейчас солдат из городка никуда высылать. С вами-то что они сделали? Присядьте, батюшка. Вот так. Ох, грехи наши тяжкие… Ничего, сударь, оправитесь, погостите у меня покуда… Вы кто будете-то?
В гостиную уже заглядывали любопытные женские личики.
– Проходите, душеньки мои! – сказал комендант. – Сударь, это супруга моя, Дарья Алексеевна и дочка Настюша…
В дверном проеме показалась еще женщина, в скромном темно-сером платье, в черной косынке на просто убранных волосах. Напряженно вглядываясь в Сергея, вдруг она всплеснула руками и бросилась к нему.
– Сергей Александрович! Не узнаете меня? Я Вера Васильева, соседка ваша!
– Верочка! Быть не может…
Он приподнялся, они обнялись, словно брат с сестрой. Сергей действительно с трудом узнал ее, так сильно исхудало и побледнело ее миловидное лицо.
– Господи, Сережа… Что такое с вами, голубчик? Вот уж не чаяла нынче свидеться, думала, вы турок бьете! А я-то… Я вдова теперь. Павлушу моего… злодеи повесили.
Сергей ахнул.
– Как, Павла?..
– Да. И свекра моего убили. Я вырвалась чудом из разбойничьих лап, бежала сюда, добрейший Антон Яковлевич дал мне пристанище. Что дальше-то со всеми нами будет, Сергей Александрович?!
Она разрыдалась.
– Матушка, да полно вам! – принялся утешать Антон Яковлевич. – Вера Николаевна, пройдет гроза, разобьют Пугача, все тяжкое забудется, и вновь мы заживем припеваючи. Верьте мне, голубушка! Замуж вас выдадим…
Вера замахала руками.
Вернулась отходившая куда-то Настюша, что-то шепнула отцу.
– Сергей Александрович, – сказал комендант, – вам надо лечь, на вас лица нет. Потом вы все нам расскажете. Настенька уже распорядилась, умница. Пойдемте, сударь мой.
Сергей, еле державшийся на ногах, последовал за комендантом. Едва присев на кровать, почувствовал, что голова кружится и наваливается тяжелый непреодолимый сон.
– Мне нужно лекаря, – прошептал Сергей. – Но… потом. А сейчас… спать…
Потянулись длинные, однообразные дни. Выздоравливал Ошеров быстро. Больше всего его беспокоила правая рука, он боялся, что уже не сможет, как прежде, владеть оружием, но, на его счастье, рана оказалась поверхностной. Зато с левой были какие-то нелады. Врач заверил, что и это скоро пройдет. Но с уменьшением страданий телесных все острее становились душевные муки. Сергей с каким-то упорным душевным самоистязанием сам постоянно вызывал в памяти образы дорогих людей, навсегда потерянных, и, как часто бывает в подобных случаях, все сильнее чувствовал себя перед ними виноватым. Терзаясь, он не замечал внимательных глаз Верочки, вызвавшейся за ним ухаживать, глаз, в которых рядом с печалью уживалась робкая надежда. Ему и невдомек было, что измучившаяся женщина, кажется, нашла в нем свое утешение…
Скоро он почувствовал себя настолько окрепшим, что мог уже, отблагодарив добрых людей, съехать от них. Но куда было деваться? Все стало безразлично, ничего не хотелось. О возвращении на войну Сергей и не подумал, словно все, что так волновало прежде, осталось в другой какой-то жизни, а сейчас надо начинать все сначала. Но ему не хотелось ничего начинать…
Наступила зима. Однажды он вышел на крыльцо в одном кафтане, без шубы и шапки, и сладко вдыхал воздух, свежий от мороза, в котором ощущалось что-то, будто бы смутная надежда на возрождение будущей жизни. К лицу то и дело прикасались ледяные звездочки-снежинки, замирали на воротнике…
– Сергей Александрович! – услышал чистый голос за спиной. Обернувшись, увидел Веру, которая смотрела на него с беспокойством.
– Сережа, что же это вы? Даже без шубы! Простынете.
Ошеров посмотрел на нее пристально, поймал красноречивый взгляд. Вот тут-то в один миг припомнилась вдруг тысяча мелочей, и Сергей догадался о том, что женщина и не пыталась особо скрывать…
– Пойдемте в дом, Вера, – пробормотал Ошеров, отводя глаза.
Они прошли в маленькую гостиную, сели рядом на диван. Пылал камин, за окном шел снег, в комнате было так уютно… Вера сидела, потупившись. Сергей, решив обязательно объясниться, мучительно раздумывал, с чего бы начать.
– Вера Николаевна… нам надо… пора… поговорить, – он сбился и замолчал, но сам голос его, глухой, взволнованный, видимо, сказал Вере о многом. Она затаила дыханье, ждала продолжения и, интуитивно догадываясь, каким оно будет, едва сдерживала слезы боли и стыда. – Я не имею слов благодарить вас… – вновь начал молодой человек, отводя взгляд.
– Не надо! – прервала его Вера. – Мы поняли друг друга, не правда ли?
– Верочка, простите! – вскрикнул Сергей. – Я не хотел…
– Это я во всем виновата. Господи! – она глухо, мучительно зарыдала. – Ведь несколько месяцев всего лишь… как Паша…
Сергей нежно поцеловал ее дрожащую руку.
– Простите меня. Умоляю, простите! Я хочу уехать, попрощаемся же сейчас, Вера Николаевна. Не сердитесь, не грустите, не поминайте лихом. К вам еще придет большое счастье…
Он не любил ее! Что тут можно было поделать?
На следующий день Сергей выехал в Петербург.
Глава восьмая Любовь и дела
Екатерина ничего не понимала. Не понимала, за что Господь так жестоко бьет Россию? В победоносном окончании войны с Турцией уже никто не сомневался, но внезапно разгоревшийся пожар крестьянской войны, затянувшейся, собравшей многие народные силы под знаменем «государя Петра Федоровича», потребовал открытия уже внутреннего фронта. Страна была совершенно обессилена. Пожелай сейчас та же Швеция развязать с Россией войну, и бери нас голыми руками. Екатерина на людях, как всегда, старалась держаться спокойно и уверенно, делая вид, что все трудности ничтожны и разрешимы, в письмах к Вольтеру насмешливо титуловала Пугачева «маркизом». А потом неожиданно теряла сознание. Роджерсон вновь ругал ее и велел поберечься, а Екатерина молча смотрела, как на белоснежном платке, который она прижимала к носу, расплывается огромное кровавое пятно…
В эту ночь Екатерина не спала. Словно прорвалось что-то в сердце, раскрылось неведомое. Воспоминания поднялись неудержимой волной, накатывались, накатывались на нее… День ее торжества – императрица всероссийская выступает впереди войск, а ошеломленный юный конногвардеец не сводит с нее удивительных светлых глаз… Вот он, уже камер-юнкер, отчаянно и дерзко признается ей в любви в переходах дворца… Он пришел к ней прощаться перед уходом на войну. Один глаз закрывает повязка, другой глядит на нее умоляюще и нежно. «Счастлив буду жизнь свою положить за Отечество на полях сражений… за имя Ваше». И вот уже прославленный доблестью воин вновь ненадолго в Петербурге. Уже не юноша – муж. Строже стал… и прекрасней. И глядит на нее с прежней мальчишеской робостью, но вновь пробудившееся страдание затемняет ясность глубокого взгляда… Да, двенадцать лет.
Он умен и не поддается на европейские обольщения. Он поможет ей в незримом противостоянии против хитрого Панина. Сейчас, когда Пугачев еще лютует и война не кончена, русской императрице необходим как воздух сильный, верный помощник, человек великих способностей. Он есть. Не для нее ли, Екатерины, и создал его Господь?