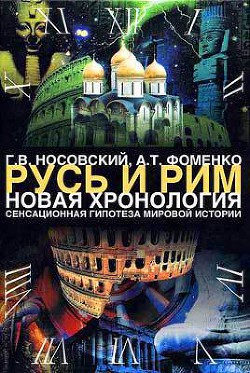обернусь лесной птицей. А когда так произойдет, я стану летать над твоим жилищем и буду каждую зорю приветствовать тебя взмахом крыла. И ты, глядя на меня, возрадуешься.
У Варяжки сжалось сердце, но чуть погодя он понял, что он не в подземном царстве, где обитают метущиеся тени, скорбные и стылые, а в этом мире, несмотря ни на что, близком его сердцу, и он облегченно вздохнул. Смущало только, что старуха назвала его другим именем, и он, чтобы хоть как-то унять все еще бродящее в нем беспокойство, сказал тихо, так, что и сам едва услышал:
— Я не Добромил. Я Варяжко.
Старуха насторожилась, ссутулилась, обмякла, строго и жестко посмотрела на него, и в ее темных глазах пуще прежнего замутилось, потускнело. А потом она отвела глаза и долго молчала, точно бы все, что хотела узнать про него, узнала, и он уже не затрагивал ничего в ее сердце.
— Стало быть, ты не Добромил? — наконец, сказала старуха потухше и вяло и, поднявшись с колен, вышла из жилища. Про него Варяжко подумал, что это землянка, невесть для какой надобности отрытая, пожалуй, тут в свое время скрывались люди, покинувшие родное оселье. Варяжко хотел бы вернуть старуху, но был слаб и голос его не обрел прежней силы. А та больше не появилась, и Варяжке стало казаться, что ее и не было, а то, что сохранилось в памяти, от чего-то другого, может, это лесные духи, воплотившись в человеческую форму, наведывались к нему. Впрочем, погодя он так не думал, образ исчезнувшей старухи снова предстал перед ним и еще долго тревожил своей несвычностью с тем, чему он поклонялся прежде. Впрочем, в несвычности угадывалось что-то обыденное.
Он так и не узнал, как оказался в землянке, только помнил, что хотел убить себя, чтобы не утратить воли. И он поступил так, как на его месте поступил бы каждый русский воин. И тогда его окутала тьма, но она была какой-то разреженной и не отодвинула его от мирского начала и неведомо с помощью какой силы, еще таящейся в нем, он почувствовал приближение врагов и испытал удовлетворение от накатившей на чужеземных воинов досады: они, кажется, хотели бы взять его в полон. А потом он с головой провалился во тьму, и она принялась им как благо. Когда же седмицу-другую спустя, чуть окрепнув с помощью отваров, заботливо приготовленных старухой, он вышел из жилища, нигде не встретил ни одной живой души. Перед ним лежало сгоревшее оселье, окруженное темно-зеленым лесом. Его мучила невозможность встретиться с человеком, взрастившим в нем новый корень жизни. Он, конечно, понимал, что отпущенное смертному не подвластно ничьей воле, только провидению, все же не хотел бы смириться с этим. А потом произошло такое, что отодвинуло и самую мысль о старухе. В какой-то момент Варяжко узнал места, где ему повстречалась девица-деревлянка. Должно быть, в этом оселье она и жила. Но где она теперь? Что с нею?.. И отчего тут так безлюдно, точно злой мор прошел по жилищам, прежде чем огонь взял свое?.. Варяжко дня не мог скоротать без того, чтобы не вспомнить о поглянувшейся девице, мысль о ней была приятна, но вместе томительна. Он тянулся к ней, рвался и раньше и, если бы не повязанность воинским делом, чему отдал себя с юных лет, если бы не верность братству, принимаемая им как часть общей судьбы всех, кто служил тому, чему служил и он, Варяжко уже давно исполнил бы свое намерение. И он-таки собрался исполнить, но произошла встреча с конной вражьей ватагой, и она несчастливо закончилась для него. Все же он попал в те места, где увидел девицу. Только к ладу ли? Вон как окрест опустыненно, черно и тоскливо. Но надежда не угасала, даже больше, с каждым днем все упрочнялась. И это было так схоже с его сердечной сутью. Едва затянулись раны, Варяжко поднялся на ноги и поспешил в те края, куда, по слухам, в великом числе бежали малые людишки. Не в одноразье он узнал про то, что в глухих местах широко и вольно осел князь Могута, подняв городища и богатые на вольные земли селища. Говорили, что он принимает под свою руку всех, покинувших отчие дворы, и нету никому от него обиды; меж близких его не найдешь злых тиунов, падких на чужими руками взлелеянное и ухоженное, соленым потом политое. Но отходили к Могуте не только малые людишки, не могущие постоять за себя, а и славные в русских землях, по стародавним летам знаемые роды. Им не по нраву было сражаться под Великокняжьим стягом, обламывая дух свободный, не свычный с уздою. Еще во времена Ольги они старались скинуть жесткие, в порушье родам, установления ее. А когда прослышали о слове Могуты, что-де всяк близ него, на вече взнесенного, властью от русских родов облаченного князя, будет жить по свычаю дедичей и никто не посмеет поломать сего, то и с легким сердцем потянулись в дальние края. Еще и то верно, что память людская не остыла, не подернулась плесенью, не ближняя память, дальняя, родовая, она и подсказала, что и в тех, ныне как бы зачужевших землях жили их дедичи и радовались, глядя на серебряно блестающие истоки Днепра-батюшки и рек помене, у многих из которых и поименования нету, утерялись в летах, бредущих невесть к какому пределу, и неведомо никому, даже Богам, быть ли сей вершине завершенной когда-либо…
— Да там она, любезная твоему сердцу, в Оковских лесах. Куда бы ей еще податься? А коль отыщешь ее, то и умыкнешь по деревлянскому свычаю. Тем и станешь любезен ее роду.
При дворе Могуты приняли Варяжку ласково, наслышаны были о нем и о его верности убитому Ярополку. Всяк старался сказать ему доброе слово и усадить на почетное место за бражным столом. Сам Могута говорил с ним, был он ростом чуть пониже Варяжки, широк и могутен в плечах; розовая рубаха, когда князь разводил руками, делалась ему мала, казалось, еще немного, и плотная ткань, прихваченная суровой ниткой, не выдержит, треснет. Могута со вниманием в зауженных темных глазах даже и теперь не утрачивающих суровости, точно бы она еще в незапамятную пору закаменела, смотрел на Варяжку, и одобрение ему прочитывалось в его облике. А чуть погодя они вместе отправились на волхование и стояли в капище [8], и длинноволосые отроковицы в синих рубахах с поклоном приняли из рук Могуты белого ягненка на заклание, которое и совершил старейшина одного