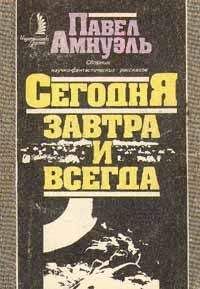— Быть бы живыми-здоровыми да благополучно убрать… — отвечал Вагап.
На жатву позвали в помощницы двух соседок. Вагап отвёз их на рыдване к полю. В одном углу посева просо было сжато — Евстафьевы домочадцы накануне тоже отведали каши из нового урожая.
Пока Вагап суетился, распрягая лошадь, из Сосновки на четырех телегах подъехала семья Евстафия. На поле стало шумно.
Жницы, положив серпы на плечи, перевязывали потуже платки, возбуждённо перекликались:
— Господи, до чего ж богато уродилось!
— Стеной стоит, стеной, да и только!
Вагап предупредил своих:
— Сразу вяжите снопы — на случай дождя начнём возить в овин.
Вскоре он нагрузил рыдван и уехал в аул.
Вечером навестили его в овине соседи Шамсетдин и Гибат. Гибат выдернул из снопа метёлку, потёр её в ладонях, залюбовался вымолоченным зерном.
— Хорошее просо, красное. Ай-ба-а-ай, как много просинок в метёлке!
— Да уж… — подтвердил горделиво Вагап.
— Ну, и поешь ты нынче каши, сосед! — сказал Шамсетдин.
— Коль суждено… С работой ещё не до конца управились.
— Теперь уж, считай, дело сделано.
— А у Ястафыя тоже так уродилось? — полюбопытствовал Гибат.
— Одно у нас поле-то. Ястафый его засеял.
— Ежели всевышний решит кому-то дать, так уж отваливает не жалеючи, — сказал Шамсетдин.
— Думаешь, он это просо для меня растил? Нет, это он Ястафыю отвалил. Но когда урожай созрел, Вагап тут как тут… — пошутил Вагап.
— Выходит, обвёл ты всевышнего вокруг пальца, — сделал вывод Гибат.
— Наверно, сидит сейчас и удивляется: как же, мол, так, я растил для Ястафыя, а жнёт Вагап… Развеселил Вагап соседей, давно они так не смеялись.
4
На покрытых лесами горах летние краски сменились осенними.
С неба светит жёлтое солнце, под его лучами пожелтевшие листья сияют золотом. И горы издали кажутся золотыми, явившимися из сказок. Лишь сосняки и ельники не изменили своего обличья, они — точно зелёные заплаты на жёлтой рубахе.
Дни стоят ясные, тихие. Но когда едешь по лесу, на тебя непрерывно падают, кружась, листья. При малейшем дуновении ветра в лесу начинается жёлтый буран. Колеи дороги набиты опавшими листьями; смешавшись с грязью, они налипают на колёса огромными ошмётками.
Хлеб давно уже убран с полей, обмолочен. У людей победней, не имеющих закромов, но собравших какой-никакой урожай, зерно ссыпано в лубочные короба, кадки, сделанные из полых древесных стволов, и припрятано в летних кухнях. Нивы щетинятся стерней, на межах чернеет бурьян. По опустевшим полям бродит скот, облепленный репьями; гривы у лошадей — как куски войлока, им словно бы подвесили вместо хвостов тяжёлые торбы.
Население Ташбаткана, освободившись от полевых работ, занялось привычными осенними промыслами. Вся детвора с утра толчётся у Пруда утонувшей кобылы. Шумно стало на берегу пруда. Самая горячая работа теперь — здесь: надо скорей содрать всё мочало с отмоченного лубья.
Мальчишки волоком оттаскивают мокрое мочало на пожухлую траву для просушки и наперегонки бегут назад, к берегу. Рукава у них засучены, штанины подвёрнуты до колен, — якобы берегут одежду, — но и рубашонки, и штаны сплошь измазаны вонючей слизью.
Гурьба подростков увивается возле старика Адгама, тот багром вытаскивает из пруда лубки, и ребята тут же подхватывают их. Им весело: старик балагурит, похваливает самых ловких, а ребята и рады стараться.
Время от времени, притомившись, старик присаживается передохнуть на груду полубков. Ребятня тоже переводит дух. Но отдых недолог — опять закипает работа.
Прискакал к пруду верхом Ахмади-ловушка. Не сходя с седла, подбодрил мальчишек: мол, старайтесь, усердие вам во благо. Мальчишки забегали ещё быстрей. Невдомёк им, что больше пятнадцати-двадцати копеек за день, как бы ни усердствовали, не получат.
Ахмади уехал. Вскоре и ребята гурьбой отправились в аул обедать. На пруд опустилась тишина. Старик Адгам разжёг возле шалаша костёр, подвесил над огнём закопчённый чайник…
Хусаина с Ахсаном дома ждала печальная новость: мать слегла. Она не смогла даже вскипятить самовар, велела похлебать в летней кухне катык.
Ей стало невмоготу за станком, когда ткала холст. И до этого уже с десяток дней она недомогала, жаловалась на головную боль, но продолжала прясть, готовила основу полотна, лишь изредка позволяя себе короткую передышку. «Оставила бы пока работу, раз болит голова, зачем так надрываться?»— говорил ей несколько раз Вагап. «Да ведь у ребят одежда больно уж обветшала, хочу вот скорей наткать и шить им обновки», — отвечала мать.
Рубахи у Хусаина и Ахсана в самом деле износились донельзя, особенно за последние дни, когда они работали у пруда. Парнишки не щадили ни себя, ни одежду, таскали лубки и драли мочало, стараясь обогнать сверстников: хотелось им заработать как можно больше денег.
Мать перед тем, как лечь, через силу прибрала у станка, чтоб ничто не путалось у ребят под ногами. Основу свернула, челнок, цевки сложила в деревянную плошку и сунула под нары. Но станок оставила на месте, намереваясь доткать холстину, как только немного полегчает.
— Вот тут сверлит и сверлит, а потом как будто иголка втыкается, — пожаловалась она, показывая на лоб.
Прошёл день, другой, а болезнь не отступала. Мать всё время надрывно постанывала, совсем перестала есть — лишь иногда сделает глоточек чаю или айрана. И прежде-то она была худощавая, а теперь и вовсе высохла, остались кожа да кости, лицо стало мертвенно бледным, глаза глубоко запали.
Позвали к больной знахарку, бабку Хадию.
— Мозги у неё, наверно, сдвинулись с места, мозги, — высказала предположение бабка.
Обвязав голову больной мочальной ленточкой, знахарка сделала углём метки против её ушей и носа. Сняв ленточку, сравнила расстояния между метками.
— Да, мозги сдвинуты, — уже твёрдо заключила бабка и принялась постукивать кулаком по голове, и без того раскалывавшейся от боли: якобы возвращала мозги на старое место. Затем крепко обмотала голову влажным платком и велела полежать так некоторое время.
Однако боль не утихала.
Бабка Хадия и нашёптывала, и прикладывала ко лбу и макушке больной нагретый у очага обломок кирпича — ничто не помогало.
Пришедшие проведать соседку старухи наперебой предлагали известные им средства против боли. Одна посоветовала приложить ко лбу больной шкурку крота, другая — закутать ей голову шкурой только что зарезанной козы. Дескать, средство это проверенное: такой-то, заболев, тем и вылечился.
Следуя совету, Вагап зарезал одну из трех своих коз. Да, оказалось, бестолку.
Хусаин с Ахсаном, возвращаясь с пруда, поймали несколько землероек. Испытали и их шкурки. Но мать мучилась по-прежнему. Не помогла и шкура чёрной кошки. Прикладывали ко лбу больной лопухи, поили отваром корней девясила и раствором заговорённой соли, а ей от этого становилось только хуже.
Бабка Хадия решилась на крайнюю меру, пошла на сделку с нечистой силой: набив старое дырявое ведро ветошью, поколдовала над ним и, выйдя за аул, закинула ведро в Болото утонувшего камня. Видимо, злой дух, терзавший женщину, должен был последовать за бабкиным подарком, но колдовство не принесло больной облегчения.
— Вот тут что-то копошится и колет, — стонала она, приложив руку ко лбу.
Бабку Хадию осенила новая догадка.
— Черви у неё, должно быть, там завелись. Надо ей голову в горячем пару подержать. Овцы вот так же головой маются из-за червей…
Бабка попросила принести пустой батман из-под дёгтя. Чего другого у Вагапа, может, и не нашлось бы, а уж пустых посудин у него была полна летняя кухня. Принёс. Бросив в батман горстку белены и залив её крутым кипятком из самовара, знахарка поставила посудину под голову больной так, чтобы горячий пар шёл ей прямо в ухо. Бабка Хадия была уверена, что черви, коль они завелись в голове, одуреют от ядовитого пара и запаха дёгтя и вылезут через ухо наружу.
Горячий пар в самом деле немного помог больной. Она вспотела и заснула. Но едва остыл пот — проснулась, опять приложила руку ко лбу:
— Уф, головушка моя!..
…На рассвете Вагап разбудил сыновей, спавших во дворе на навесе.
— Вставайте, дети, вставайте! — произнёс он необычно мягко и тут же ушёл куда-то.
Хусаин с Ахсаном долго потирали глаза, отгоняя сон. Наконец спустились по приставной лестнице вниз. Ополоснули лица, полив воды друг другу из помятого латунного кумгана, стоявшего на крыльце. Ещё ничего не подозревая, вошли в дом, потянулись к висевшему у дверей полотенцу и вдруг замерли: на краешке нар в скорбных позах, молитвенно сложив руки, сидели две старухи — бабка Хадия и соседка, жена Шамсетдина. Неестественно вытянувшись вдоль нар, в странной неподвижности лежала мать. На её лицо был накинут замызганный платок.