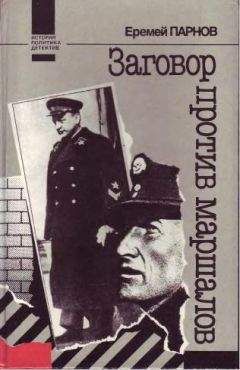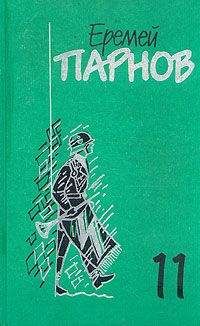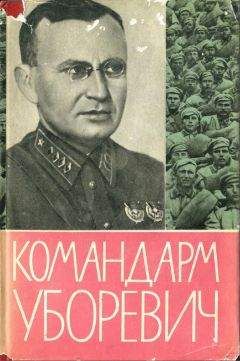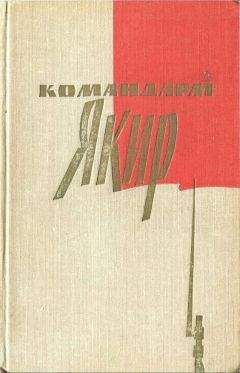— Ты имеешь в виду завещание Ленина?
— Не только... Кстати, ты знаешь, что именно меньшевик Вышинский отдал приказ арестовать Ильича?
— Наслышан.
— Я сам видел документы. Или не веришь разоружившемуся троцкисту?
— Я верю тебе, Витовт, хоть и не похоже, что ты действительно разоружился,— мягко заметил Тухачевский.
— Разоружился — не разоружился, конец один. Сталин никому ничего не прощает. Когда решался вопрос с завещанием, он выкрутился только благодаря Зиновьеву. «Знает ли товарищ Сталин, что такое благодарность?» — опомнился Гриша, когда его турнули вниз.— «Ну, как же, знаю, это такая собачья болезнь».
— Звучит анекдотически.
— Есть материалы почище, касающиеся лично его,— Путна оставил замечание без внимания.— Но я их не видел и потому пока воздержусь. Страшные вещи, Миша, страшнее не может быть.
— Иногда мне кажется, что лучше вообще ничего не знать. Иначе невозможно ни жить, ни работать.
— Себя ведь не переделаешь. И жизнь — тоже. Мы, правда, попытались, но вышло не совсем так, как мечталось. Сами виноваты... Я ненавижу Троцкого! Говорю тебе как старому другу, с полной искренностью. Он один мог задавить чудовище. Еще в двадцать третьем году... Но ничего не сделал.
— Не было у нас этого разговора,— твердо сказал Тухачевский.
Под яростным солнцем прорвавшегося на континент антициклона нестерпимо сверкали зевы геликонов, расшитые золотой нитью генеральские кепи, надраенные пуговицы жандармов.
Колыбель свободы, столица коммуны и революций встречала посланцев большевистской Москвы. Отгрохотали барабаны военного оркестра, отзвенела вдохновенная медь. Мятежные звуки Интернационала и Марсельезы поглотила безбрежная синева. В протяжном отливе звуковой напряженной волны прорезался гомон толпы на перроне, треск рвущихся по ветру трехцветных и красных полотнищ, стрекот кинокамер, торопливое клацание затворов фотографических аппаратов. Здесь, в непокорном и вечном Париже, родилась и эта будоражащая кровь музыка, и сама охватившая земной шар всепобеждающая идея решительного последнего боя, которому не видно конца. Слитность порыва вспоминалась в отголосках мелодий, неразрывность времен и сердец. Прошлое и будущее словно бы сомкнулись в увитых алыми лентами лавровых венках героев и мучеников. Кипящий праведным возмущением разум предчувствовал близость нового часа славы. Заклейменный проклятием раб протягивал руку сынам отечества, и вновь разверзлись сияющие дали нового мира. Но страшно было туда заглянуть, и не о том пели трубы, чье эхо долго звучало в ушах. Вся жизнь промелькнула в едином миге, в последнем аккорде, последнем звуке.
Витовт Путна преодолел прихлынувший к горлу горячий накат. Вслед за Тухачевским он отдал честь и пожал руку помощнику начальника генерального штаба Жеродиа, поздоровался с авиатором Келлером, заместителем шефа Второго бюро полковником Гошэ. Потом вместе с работниками полпредства к ним подошли военный атташе Венцов и Васильченков, представлявший авиацию. Из толпы, сдерживаемой цепью жандармов, летели приветственные выклики, церемониал был нарушен, всеми владело нервное оживление.
Путна и сам не понимал, отчего вдруг так по-юношески разволновался. За девять лет военно-дипломатической службы в Берлине, Токио, Лондоне, казалось бы, всякое было, а тут, в Париже, дал слабину. И вовсе не потому, что по воле судьбы и в соответствии с международным протоколом Марсельеза слилась с Интернационалом. Внешний повод, не более. Все реже и глуше откликались на это потайные струны. И вот, поди же, как память тревожно взметнулась, угнетенная стойкой горечью разочарований, как, разворошив догорающие уголья, пахнула опасливым чадом в глаза.
Привычным усилием Путна заставил себя отключиться от личных переживаний. Процедура взаимных представлений закончилась. Теперь каждое слово имело значение. Недаром газетчики и кинохроникеры замкнули военных в плотное кольцо. Поминутно вспыхивал магний.
Втянутый, почти помимо воли, в непринужденно завязавшуюся беседу, комкор позавидовал безмятежному спокойствию Тухачевского.
Равно приемля темпераментную жестикуляцию начальника штаба воздушных сил Келлера и чопорную сдержанность военного разведчика Дювернуа, Михаил Николаевич непринужденно завладел инициативой.
— Судя по вашим словам, господа,— сказал он, одобрив намеченную программу,— мы уже приступили к работе?.. Лично я нисколько не возражаю. Если Компьенское перемирие могло быть подписано в железнодорожном вагоне, то чем плох этот замечательный вокзал для нас, солдат, да еще и союзников?
Приправленный шуткой комплимент был встречен одобрительными улыбками. Красный полководец определенно оправдывал ожидания.
«Великолепное понимание духа истории...» — репортеры торопливо заполняли блокноты стенографическими завитушками.— «Аристократические манеры потомка прославленных генералов...» «Безупречная речь воспитанника Дидро и Монтеня...»
С разных сторон посыпались вопросы.
— Потом, дамы и господа,— генерал Жеродиа повелительным жестом разомкнул окружение.— Прошу,— он предупредительно указал дорогу зажатой в руке перчаткой.
Сцепив локти, жандармы образовали проход.
— Вы уже знаете, что ваш визит вызвал заметную нервозность в Берлине? — спросил Жеродиа по пути к машинам.
— «Владыка Журнализм, ведущий свистопляску, глупец, кому дано при помощи столбцов дурачить по утрам три тысячи глупцов»,— процитировал маршал.— Это из Альфреда Мюссе, мой генерал... Политику в наш век все-таки определяют самолеты, а не красивые слова.
— Совершенно с вами согласен! — обрадовался генерал Келлер.— Буду рад продемонстрировать высоким гостям искусство наших пилотов в небе Шартра.
— Почему именно самолеты? — осторожно поинтересовался полковник Гоше.— Не танки, не газы?
— В непосредственной связи с вопросом о нервозности,— мгновенно отреагировал Тухачевский.— На конец прошлого года в Германии было произведено четыре тысячи пятьсот единиц. Есть о чем призадуматься.
— Этот вопрос наверняка будет поднят на встрече с нашим министром. Генерал Венцов, надеюсь, располагает программой? — Жеродиа обернулся к военному атташе.
— Так точно, господин генерал. Спасибо за любезность.
— Тогда все в порядке. До скорой встречи, господа. Увидимся в военном министерстве.
Тухачевский уже стоял возле открытой дверцы автомобиля, когда на стоянку, прорвав оцепление, влетела молодая энергичная дама.
— Два слова для агентства «Гавас»! — выпалила она на одном дыхании.— В виде исключения, маршал!
— Сожалею, сударыня,— Михаил Николаевич предупредительно обернулся.— Как человек военный, я лишен возможности дать интервью.
— А если вопрос не политического характера? — запахнув коверкотовое пальто, помятое в легкой потасовке с полицией, она оборвала висевшую на нитке пуговицу и обезоруживающе улыбнулась.— И не военного?
— Тогда ничего не поделаешь, придется подчиниться. Слушаю вас, мадам.
— Я читала, что маршал обожает женщин. Это правда?
Стоявшие рядом французы встретили вопрос жизнерадостным смехом. Сотрудники советского полпредства, растерянно переглянувшись, полезли в машины.
— Боюсь, что так, прекрасная парижанка,— скрывая улыбку, Тухачевский слегка поклонился.— Но не судите слишком строго грешников вроде меня.
— Никогда в жизни! — просияла она, сразу похорошев.— На таких грешниках держится наш жалкий мир.
Репортаж (вместе со снимком маршала и интервью- ерши) появился в вечернем выпуске «Фигаро». Пространное описание церемонии встречи заключали следующие слова:
«Каюсь, ибо грешен,— с чарующей улыбкой признался мне синеглазый красавец маршал.— Но кто способен устоять перед шармом «парижанки»?
За утренним чаем в полпредстве на рю Гренель Потемкин подсунул газету Михаилу Николаевичу, отчеркнул ноготком нужный абзац и, сладострастно прищурясь, молвил: