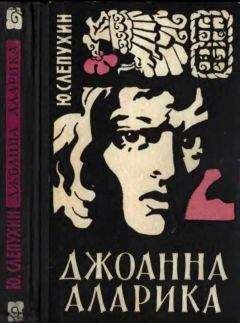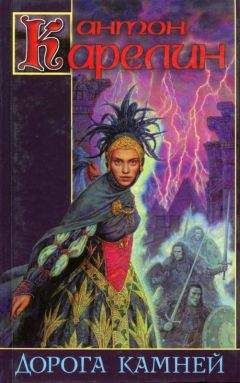Игнатьев поднял голову — Ратманова удалялась от палатки, всей спиной выражая протест и обиду. И, надо сказать, у нее это получалось. «Не знаю я, как шествуют богини, но милая ступает по земле», — вспомнилось ему почему-то. Она именно шествовала, — кстати, он сам научил ее этому: по здешним колючкам в открытых сандалиях можно ходить только осторожно переступая, как идут по талому снегу, и у Ратмановой выработалась забавная, словно танцующая походка. «Не знаю я, как шествуют богини…» Ника Самофракийская. В русском языке нет ласкательного от Вероники. Уменьшительное есть: Ника. А ласкательного нет. Зато есть в греческом — Никион. Тит Флавий звал так принцессу Беренику, по-гречески: Никион. Моя Никион. Никион Ратманова. «…Но милая ступает по земле…»
— Тьфу, пропасть, — пробормотал вслух Игнатьев. — Только этого не хватало!
Он посидел, стараясь сосредоточиться и вспомнить, зачем вылезал из раскопа, когда увидел свою Никион, увлеченно роющуюся в античной свалке. Ах да, сфотографировать… Он протянул руку, снял с крюка «Зенит». Опять не заряжен. Сколько раз просил не оставлять аппарат без пленки! Пришлось лезть в ящик, доставать черный мешок, пленку, кассеты. Сидя с засунутыми в мешок руками, Игнатьев сделал несколько глубоких вдохов-выдохов по системе йогов, потом поднял голову. — Ратманова, встретив Мамая на полпути к раскопам, стояла и разговаривала с ним. Жаловалась, надо полагать…
Тоже мне, Ника Самофракийская. Кстати, почему именно Самофракийская — непонятно; у Витеньки привычка мыслить штампами. Если Ника — то непременно из Лувра. Что общего? Титаническая фигура Победы, мощно и неудержимо устремленная вперед, словно идущая на таран… и эта девочка. У той, Самофракийской, тело зрелой женщины. А здесь — воплощенная юность, полет, легкость. Скорее уж та, в Олимпии… «Летящая Победа», изваянная одним из учеников Фидия. Как же его, черт…
— Слушай, Димка! — Мамай, подойдя к палатке, просунул внутрь бороду и сомбреро. — Чего это ты Лягушонка разобидел? Идет, а у самой вот такие слезищи — хоть на экран крупным планом. «Меня, говорит, Дмитрий Павлович из своего раскопа прогнал…»
— Совершенно верно, прогнал. Пусть работает на втором. Витя, ты последний фотографировал? Опять отщелкал всю пленку и оставил аппарат незаряженным. Сколько раз просил! А теперь я по твоей милости должен сидеть как дурак и заниматься этой чертовщиной…
— Командор, не будьте мелочны, — сказал Витенька. — Вы чем-то расстроены, и сейчас вам только полезно посидеть полчасика в палатке, в тени. Здешнее солнце губительно действует на хрупкую нервную систему северян, не забывайте об этом. Вечером отнесу пустые кассеты и запас пленки кому-нибудь из «лошадиных сил», и пусть-ка они этим займутся.
— Да, но пока этим занимаюсь я.
— Ладно, не помрешь, — сказал Витенька. — Ты лучше объясни, чего это ты последнее время бегаешь от этого несчастного Лягушонка? Ей действительно нравится работать с тобой, и это естественно, потому что ты умеешь заинтересовать человека. Эдька Багдасаров сказал мне как-то, что, только поработав с тобой в поле, он по-настоящему понял, что такое археология…
— Прекрасно, прекрасно, — нетерпеливо прервал Игнатьев, — я очень рад, что наша гостья заинтересовалась археологией, но она, к счастью, не археолог, и я не вижу необходимости углублять ее знания. Все равно она через месяц все забудет! Что у меня, других дел нет, как читать доступные лекции туристкам?
— Командор, я в свое время предупреждал вас, — вкрадчиво сказал Мамай. Окончательно вдвинувшись в палатку, он присел на край вьючного ящика и снял сомбреро. — Вы помните тот наш разговор? Я сам был против того, чтобы оставлять здесь туристку. Вы сказали: «А что тут такого? Пусть поживет, поработает, присмотрится. В конце концов, иногда так просыпается призвание» — привожу буквально ваши слова. Помните?
— Помню. Что из этого следует?
— Ничего, кроме вашей непоследовательности. Если она вам так неприятна, не надо было ее оставлять. Не надо было читать ей вдохновенных лекций об античном мире! А то это как-то несерьезно, командор. Так поступают соблазнители — вскружили девчонке голову, а теперь знать ее не хотите…
— Витя, — сдерживаясь, сказал Игнатьев, — твое остроумие я всегда ценил, но сейчас оно переходит — прости — в пошлость. Кончим этот разговор, пока не поздно.
— Нет, ты действительно того, — Мамай выразительно посверлил себе висок указательным пальцем. — Что с тобой, старик? Случилось что-нибудь?
— Ничего не случилось. Пошли, мне надо успеть сделать снимки, пока солнце не высоко…
Мамай крякнул и полез из палатки, нахлобучивая сомбреро. Игнатьев вышел следом.
— А я ведь, кажется, начинаю догадываться, что с тобой происходит, — весело сказал вдруг Мамай, когда они почти дошли до раскопа. — Ну, Димка…
— Только, пожалуйста, держи свои догадки при себе, — оборвал Игнатьев. — Ты не знаешь, когда «Аполлон» переходит на окололунную орбиту?
— Вроде бы вечером, около девяти по московскому. «Лошадиные силы» должны знать, они все время слушают. Так, может быть, прислать все-таки Лягушонка на четвертый?
— Нет, пусть работает там, где я сказал.
— Понятно, понятно, — Мамай ухмыльнулся в свою бандитскую бороду, покрутил головой и повторил загадочно: — Ну, Димка!
— Иди, Витя, иди, пока я тебя не послал…
Витя ушел, унося в бороде двусмысленную ухмылку. Игнатьев спустился в раскоп, заснял с разных точек расчищенный участок вымостки.
— Все, Дмитрий Палыч? — спросила Гладышева, когда он кончил фотографировать. — Давайте тогда я отнесу аппарат Лии Самойловне, она просила, когда освободится.
Он отдал «Зенит» практикантке, но тут же вернул ее.
— Я, пожалуй, сам отнесу, мне надо там посмотреть…
Возможно, он уже действительно стал «того», как предположил Мамай, потому что ему показалось, что в глазах Гладышевой промелькнуло нечто насмешливое — дескать, на что или на кого вам вдруг понадобилось там посмотреть?
— Расчищайте пока дальше, — сказал он строго, — я сейчас вернусь.
Никион сидела у южной стены раскопа, осторожно расчищая медорезкой землю вокруг большого обломка амфоры. Она не подняла головы, когда он проходил мимо, и вся ее поза выражала такую покорность судьбе, что ему захотелось присесть рядом, провести рукой по этим темным блестящим волосам и сказать что-нибудь утешительное. Но ничего утешительного он сказать не мог — ни ей, ни себе. Он отдал аппарат Лии Самойловне, посмотрел вместе с нею остатки органики, добытые из рыбозасолочной цистерны, и уже собрался уходить, как вдруг вернулся.
— Лия Самойловна, — сказал он, — вы, кажется, хорошо знакомы с раскопками Олимпии?
— Новыми какими-нибудь? — спросила та.
— Нет, с теми, большими, что вел еще Курциус. Вы не помните, там нашли статую «Летящей Победы» — чья это работа?
— «Летящая Победа»… — Лия Самойловна подумала. — Та, что была с орлом? По-моему, это работа Пэония.
— Черт, ну конечно! — Игнатьев хлопнул себя по лбу. — Пэоний, ну конечно же…
— Да, он ее изваял по заказу граждан Мессены, как обетный дар после разгрома спартиатов на Сфактерии…
— Правильно, вспомнил. В четыреста двадцать четвертом году.
— А что?
— Да нет, просто из головы вылетело, — сказал Игнатьев.
Ника не слышала, о чем они говорили. Она прилежно скребла землю, до замирания сердца надеясь, что вдруг медорезка на что-то наткнется… Какая-нибудь уникальная находка, чтобы сам Игнатьев ее похвалил. Но земля снималась легко, слой за слоем, обломок амфоры обнажался все больше, а ничего интересного вокруг так и не обнаруживалось. Камни, галька, кусок ракушки…
Не утерпев, она боязливо повернула голову — Игнатьев, стоя на дальнем краю раскопа, продолжал разговаривать с Лией Самойловной. А мимо нее прошел, не сказав ни слова! В застиранных и потертых джинсах и сомбреро, которое он носил не как Мамай — бубликом, — а завернув поля с боков кверху, Игнатьев, подтянутый и очень загорелый, показался ей вдруг похожим на персонаж американского вестерна. Вот только солнцезащитные очки нарушали образ — ковбои, пожалуй, их не носят. Игнатьев и сам всегда работал в очках, и требовал того же от других; без светофильтров, сказал он однажды Нике, можно не увидеть «пятна» на освещенной солнцем поверхности, а вовремя заметить «пятно» — это очень важно…
Ника вздохнула и снова принялась за работу. Ученый, похожий на ковбоя, как странно… В ее представлении ученый должен был быть или бородатым академиком в черной шапочке, или — если молодой — рассеянным добродушным увальнем, как Юрка. А вот Игнатьев совсем-совсем другой. Ни рассеянности, ни добродушия. Какое там добродушие! Никогда не повысит голоса, но она за все время своего пребывания в лагере ни разу не видела, чтобы командора кто-нибудь ослушался. Сама она боялась его до дрожи в коленках, хотя иногда он умеет быть удивительно внимательным и заботливым. То есть когда-то умел; в последние дни его словно подменили — таким стал суровым и неприступным. И только по отношению к ней! Почему? Что она такого сделала?