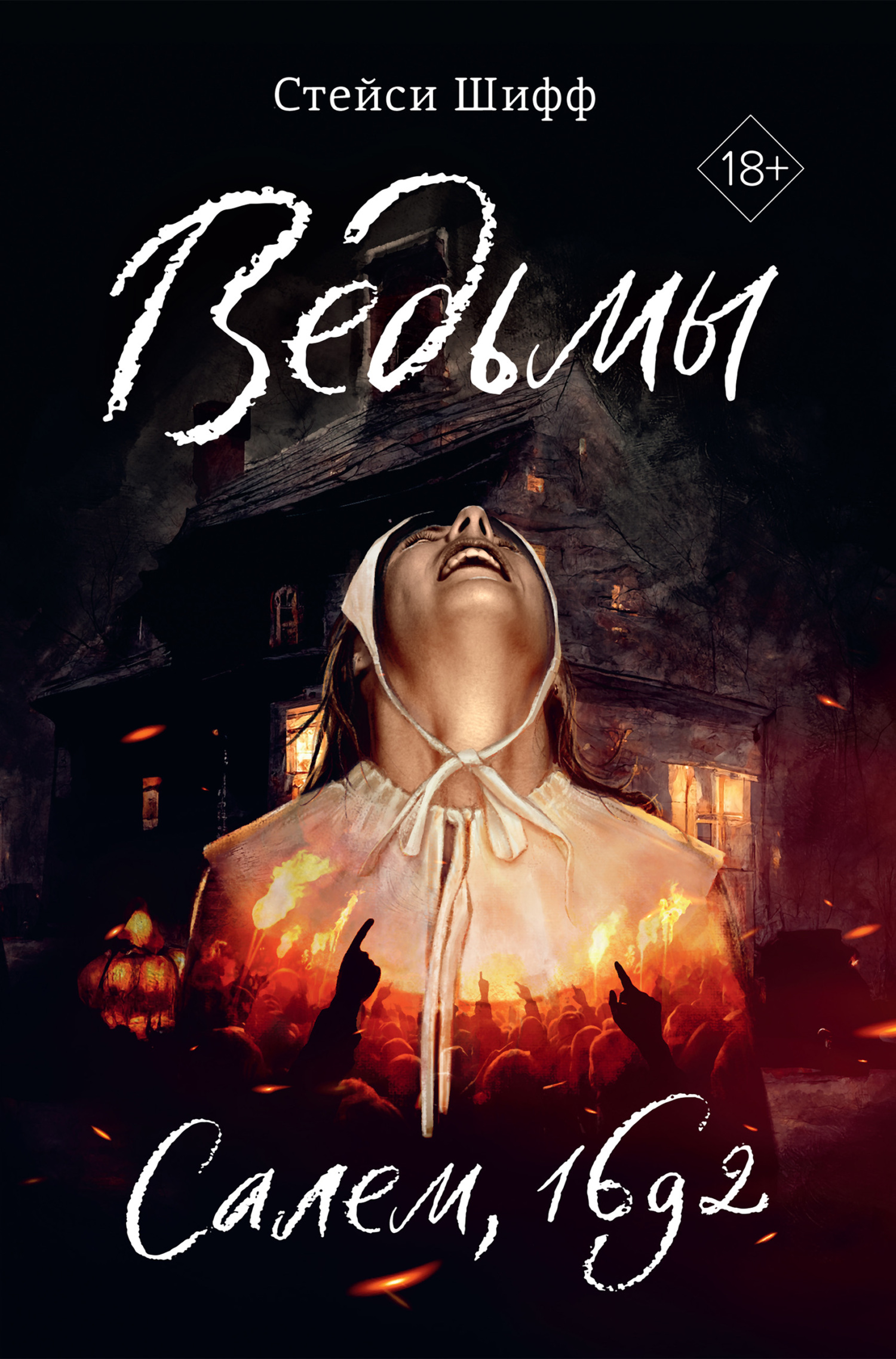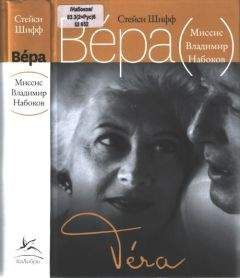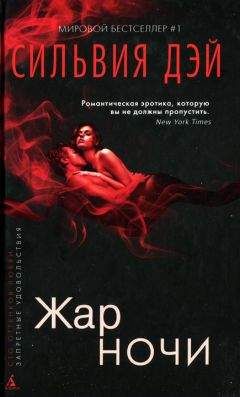до нас именно благодаря судебным протоколам, своеобразному каталогу их неблаговидных поступков. Это одновременно и впечатляющий конспект крупных и мелких правонарушений, и дань гипертрофированной вере в причину и следствие.) Жители Массачусетса XVII века были не больше склонны к злодеяниям, чем все остальные, просто они больше любили судиться. Даже переписывая официальные протоколы, они оставались дотошными бухгалтерами и любителями сводить счеты. Люди, привыкшие давать показания, те, чье спасение зависело от публичного покаяния, – конечно же, из них получались превосходные свидетели. Никогда не было недостатка в желающих рассказать, что говорилось, или о чем они слышали, будто оно говорилось в прошлом поколении. Постоянная слежка друг за другом могла выглядеть совсем иначе в суде. Коттон Мэзер, призывая в 1692 году паству оставаться друг для друга зоркими сторожами, видимо, имел в виду нечто другое, чем жена Уильяма Кентлбери, залезшая на дерево и приглашавшая подругу присоединиться к слежке за соседкой (которая вытолкала ее мужа со своего участка, зашвыряв его разнообразной утварью) [43].
И тем не менее, как бы поселенцы ни были бдительны, многое все же у них пропадало – от кобыл и изгородей до добродетели. Долги и пьянство возглавляли список судебных претензий, недалеко от них ушло нарушение границ во всех формах. Что неудивительно, ведь параметры пожалованных поселенцам участков определялись примерно так: «начинается от пня и тянется к востоку на двадцать метров, до столба» или «с востока ограничивается довольно большим черным или горным дубом, стоящим на взгорке у дороги» [44]. Даже когда границы были четко обозначены, домашние животные их игнорировали. Вольно пасущиеся свиньи десятилетиями сеяли в Новой Англии раздор: соседская хрюшка постоянно топтала ваш горох. Даже невозмутимая Ребекка Нёрс одним воскресным утром пришла в ярость, увидев в саду непрошеных парнокопытных гостий, и попросила сына принести ружье (дело Ребекки в итоге осложнилось тем, что владелец скотины вскоре после этого скончался). Прося деревню починить его прогнившую, разваливающуюся изгородь, Пэррис называл ее «возмутительницей спокойствия» между ним и соседями [45]. Каждую весну скот любого из них отправлялся гулять на соседскую сторону. Из года в год в Салеме обсуждалась пасторская изгородь, что – вместе с боязнью нечестивости, голода и вторжений – уместило новоанглийскую проблему в три емких слова.
Такое впечатление, что замки́ в Массачусетсе XVII века вообще не работали: границы там то и дело нарушались, а в дома вламывались. У салемских фермеров имелись основания поддерживать страх собственных жен оставаться в одиночестве: женщина подвергалась риску нападения соседа, когда ее муж отлучался в погреб за сидром. Осознанно или нет, мужчины регулярно ныряли в чужие кровати (интересно, что на протяжении 1692 года женщины-привидения очень часто беспокоили мужчин по ночам, притом что в реальности нередко случалось как раз обратное). Особенно опасными местами были темные сараи. Одна девушка из Ньюбери заявила насильнику, заманившему ее в хлев, выбив свечу из ее руки, что «скорее даст забодать себя коровам, чем будет осквернена таким придурком, как он» [46]. Подобные стычки обладали мощным разрушительным потенциалом: злые слова спорящих часто превращались в еще более ожесточенную перебранку между их родственниками, которые несли эстафету дальше, от поколения к поколению. Таким образом, вражда Патнэмов с несколькими семействами из Топсфилда за десятилетия приобрела силу цунами, а семья Ребекки Нёрс бесконечно судилась с теми же Патнэмами за землю. Суды, основанные на английском праве, работали весьма эффективно и молниеносно. До тюрьмы доходило редко. Обычно все заканчивалось заманчивой отработкой или возмещением потерь – ну или новым иском.
Наказания были весьма оригинальными, а вот преступления – не очень. Слуги регулярно подвергались словесному и физическому насилию. Они мстили, опустошая погреба, крадя утварь или подбрасывая камни в хозяйские постели [47]. Прежде чем убежать вместе с конем и ботинками хозяина, один слуга сообщил своей госпоже, что она «обычная шлюха, сука с горящим хвостом и жаба попрыгучая». Мало кто подходил к делу настолько творчески, как та девушка, что бросила жабу в кувшин с молоком. Салемского торговца Томаса Мола постоянно вызывали в суд – у него была крайне раздражающая квакерская привычка работать в день отдохновения и требовать того же от прислуги (это видели в окно его лавки) – в 1681 году он оказался там за избиение рабыни. Мол нанес ей тридцать или сорок ударов хлыстом по обнаженной спине. Она потом две недели харкала кровью. Зачем было так жестоко бить девушку, ведь он мог просто ее продать? – спросили его. «Потому что она хорошая служанка», – объяснил Мол, который тихо пересидел события 1692 года, зато после уже не выбирал выражений.
Что суду не всегда удавалось, так это находить смысл в происходящем. Порой в безрассудном поиске причин лучшим объяснением оказывалось вмешательство потусторонних сил. Порой, как указывала группа самых выдающихся священников Новой Англии, оно было единственным объяснением [48]. И бесспорно, наиболее универсальным. Если это не дело рук Сары Гуд, то как еще объяснить падёж деревенского скота? Магия отлично связывала болтающиеся концы, отвечая за что угодно случайное, пугающее и недобрососедское. Как обнаруживал Сэмюэл Пэррис, магия отклоняла божественное правосудие и рассеивала личную ответственность. Дьявол не только давал отдохнуть от причинно-следственных связей, но и предельно ясно выражал себя: при всей их порочности, в его мотивах имелся смысл. Не приходилось спрашивать, чем вы вызвали его недовольство – что было приятнее, чем аналогичная ситуация с гневом небес, – или безразличие. А когда дьявольские махинации проявлялись именно так, как вы ожидали, то быстро становились тем, что вы видели. Своей очевидной наблюдаемостью колдовство сокрушало логические тупики. Оно подтверждало причины недоброжелательства, нейтрализовало пренебрежение, облегчало тревогу. Оно давало железобетонное объяснение, когда все шло прахом буквально к чертям собачьим.
В деревне Салем никто не жил в одиночестве. Но неожиданно – после предостережения Деодата Лоусона и зажигательной проповеди Пэрриса – все оказались еще менее одинокими, чем когда-либо. Начался разгул мрачных видений. Вечером 6 апреля, по сообщению Пэрриса, Джон Проктер пришел в пасторат и напал на его племянницу. То же самое он проделал в доме Патнэмов. В ту же среду в нескольких километрах от них двадцатипятилетний фермер по имени Бен Гульд проснулся и обнаружил стоящих у своей кровати Джайлса и Марту Кори [49]. Они дважды больно ткнули его в бок и вернулись следующей ночью, уже вместе с Проктером. Еще несколько дней Гульд от боли не мог надеть на ногу ботинок. Он стал первым из ряда молодых мужчин – обвинителей. Теперь мужчины тренировались в колдовстве на других мужчинах, правда, предпочитали воздерживаться от этого в присутствии судей. Не