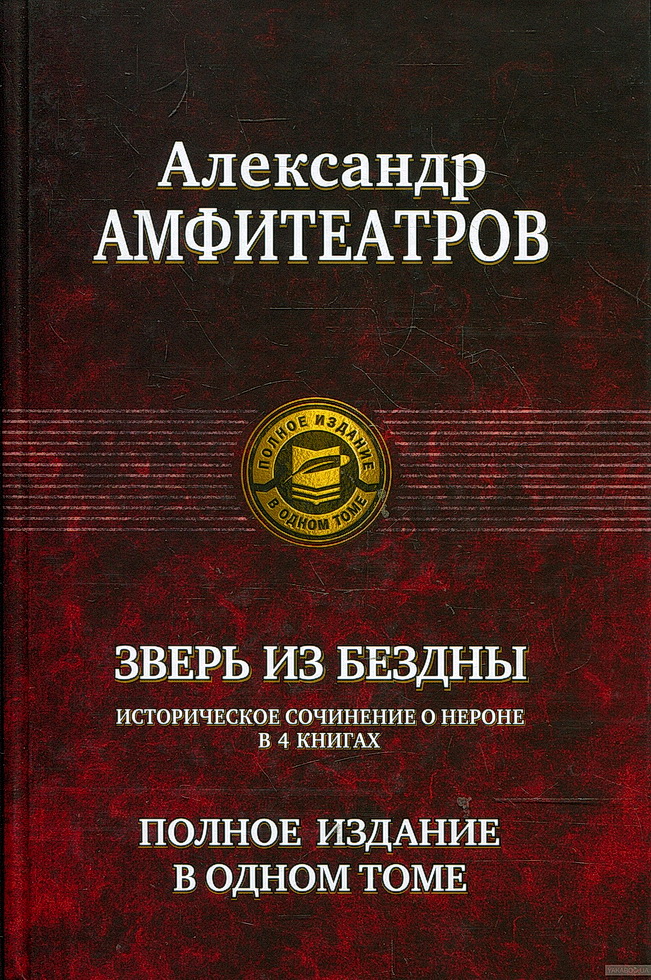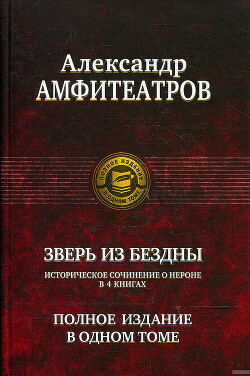сенаторы Флавий Сцевин, Афраний Квинтиан, и всадник Клавдий Сенецион, личный друг Нерона, товарищ его юности. Когда-то он, Нерон и М. Сальвий Отон составляли трио буйных, бесшабашных буршей, наполнявшее Рим скандалами и безумствами. Дружба с этими молодыми людьми сыграла в разрыве цезаря с матерью, Агриппиной Младшей, быть может, не меньшую роль, чем знаменитый любовный роман его с вольноотпущенницей Актэ. Известно, что и в эпоху заговора Сенецион не был лишен милостей
Нерона и продолжал быть при дворе его своим, интимным человеком. Так что — из-за чего, собственно, устремился к государственному перевороту этот веселый и беспутный куртизан, — остается неясным. Разве что — человек вдруг переродился точно так же, как Субрий Флав: что, под влиянием агитации Латерана и ему подобных, искренних энтузиастов, и в Сенеционе заговорило ретивое, проснулись дух староримской доблести и сознание глубокого ее унижения под державой Нерона. Кроме Сенециона, из всаднического сословия пропаганда заговора увлекла еще Цервария Прокула, Вулькатия Арарика, Юлия Авгурина, Мунатия Грата, Антония Наталиса и Марция Феста. Конечно, все эти люди в равной степени рисковали своей кожей, но для Сенециона риск был больше, чем для кого-либо, и, должно быть, великими надеждами на будущие выгоды был обеспечен он, когда, очертя голову, променял фавор у императора на революционную авантюру. Замечательно, что именно эта группа, которой бы, вовсе и не место в столь грозном политическом предприятии, проявляла особенное ожесточение против Нерона, рвалась на первые места действия и, в конце концов, своей горячностью и неосторожностью погубила дело. Афраний Квинтиан ненавидел Нерона за то, что цезарь высмеял его в какой-то из своих сатирических шансонеток, как заведомого педераста. Анней Лукан — раздраженный авторским самолюбием, так как, ревнивый к его поэтической славе, цезарь-стихотворец запретил ему публиковать свои произведения. Но удивительнее всего была внезапная энергия сенатора Флавия Сцевина — человека, до того одуревшего и ослабленного духом от распутств, что, казалось, он не жил, а прозябал, — спал походя. Теперь эта живая развалина вдруг одушевилась жаждой убийства. — Сцевин требовал у сотоварищей чести нанести Нерону первый удар, достал себе какой-то особенный древний кинжал из храма Фортуны в этрурийском городе Ферентине и, рисуясь ролью заговорщика, всегда носил оружие при себе, как «человек судьбы», обреченный на великое дело.
Как мы увидим ниже, аффектация именно этих господчиков и погубила дело Пизона и предала заговор в руки Тигеллину. Очутившись под следствием, все они потерялись на допросах столько же, сколько раньше храбрились, и, в ответ на коварные посулы безнаказанности, не только оговорили в сообщничестве большую часть римской знати, но позорнейшим образом предавали палачам ближайших друзей и родных своих, а поэт Лукан обвинил даже свою родную мать. Эта банда баричей — не знавших сами, чего они хотели — прямая и некрасивая противоположность группе заговорщиков-солдат, непоколебимо твердой в своей сознательной решимости и истинно геройской в расплате за нее пытками и смертью.
Заговор погиб оттого, что участники его слишком долго не могли столковаться между собой о программе действий. А столковаться им не удавалось потому, что в дело замешалось слишком много знати, равно честолюбивой в своих надеждах, равно чающей получить в перевороте верховную власть или возможность распоряжения ею, как ранее распоряжались Бурр и Сенека, а теперь Тигеллин. Номинальный глава революционной организации, Пизон был далеко не уверен, что сделается главой государства, как скоро заговор перейдет из статического состояния в динамическое и убийством Нерона откроет новому народному избраннику дорогу к принципату. Приверженность к нему соучастников была не единодушна. Из массы их и из аристократов сочувственников, не принимавших в заговоре прямого участия, но разделявших его симпатии и надежды, выделилось несколько новых претендентов на верховную власть, и Пизон не без основания опасался, не оказаться бы ему в положении кошки, которая, таская каштаны из огня, смертельно обожгла себе лапы, а каштаны-то съели другие. Он очень хорошо сознавал, что многие видят в нем средство, а не цель переворота. Его имя пригодилось, как компромисс, на котором могли столковаться, между собой солдаты и придворные, — судя по некоторым намекам историков, принадлежавшие преимущественно к партии цезаристов-демократов. Но аристократам-олигархам Пизон вряд ли был угоден. По крайне мере, ближайшим соперником своим претендент почитал принца Л. Силана, сына М. Силана, «Золотой овцы», умерщвленного Агриппиной вслед за узурпацией Нероном принципата. В пользу этого говорили его блестящие способности, знатность, недюжинное образование и близость со знаменитым юристом эпохи Гаем Кассием, столпом аристократической правой в сенате.
Кассий пользовался в Риме огромным уважением. Человек глубоких познаний, законник по преимуществу, он однако, не ударил лицом в грязь и на поприще военном, очень умно и с тактом проведя, в качестве правителя Сирии, в 49 году по Р.Х., мобилизацию армии против парфянского шаха Готарза. Римлянин старого закала, чванный своими республиканскими предками и, в особенности, памятью Г. Кассия, убийцы Юлия Цезаря, Кассий убежденно мечтал о широких государственных правах для родовой знати и о суровой дисциплине для демократических элементов республики. Десятью годами позже парфянских подвигов, мы видим его уполномоченным сената в Путеолах, ныне Поццуоли, где народ, угнетенный, разоренный грабителями-декурионами и самовластной аристократией, восстал против городского совета открытым мятежом. В представителей власти уже летели камни, бунтовщики грозили сжечь город — в воздухе висели резня и междоусобие. Кассий, прибыв в Путеолы с поручением укротить волнение, окончательно смутил город своей беспощадной, прямолинейной строгостью. По видимому, на него жаловались в Рим, и ему из Рима дан был совет — действовать помягче. Тогда он, как некий античный Муравьев, не понимающий полумер и не желающий ими руководиться, вовсе отказался от путеоланской миссии, передав ее братьям Скрибониям, которые легко покончили с мятежом угрозами преоторианской экзекуции и казнью нескольких зачинщиков. Тем же грозным, непреклонным противником буйства черни и демократических льгот выступил Г. Кассий в 62 году, в заседаниях сената по пресловутому делу об убийстве римского префекта Педания Секунда собственным его рабом. Как говорено уже, необходимость применить к этому случаю старый закон, требующий казни не только преступного раба, но и всех рабов, которые проживали под кровлей убитого, вызвала возражения в обществе — по огромному количеству невинных жертв, должных погибнуть силой закона ни за что, ни про что. Их было четыреста. В Риме, охваченном ужасом и состраданием, вспыхнуло возмущение. В самом сенате раздались голоса демократической оппозиции — с требованиями, во имя человеколюбия, отмены свирепого закона. Тогда Кассий выступил против своих товарищей с громовой речью, изложившей, в духе Катона, целый кодекс беспощадного, проницательно убежденного рабовладельчества, и, на основании формального и