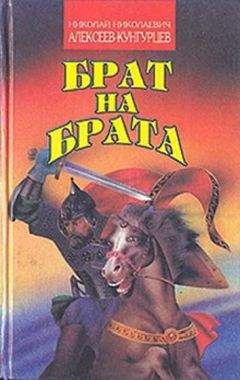— Что говорить!
— Мы б там, может, для тебя кое-что и устроили, хе-хе!
И Кириак-Луйп многозначительно подмигнул.
— Благодарствую! Да, надо, надо… А ты скоро на кормленье отъедешь?
— Скоро — не скоро, а к Покрову думаю…
— Тэк-с… Еще времени порядочно… Оно, положим, и не заметишь, как пройдет.
— Вестимо.
— Кушать пожалуй, боярин, все изготовлено, — доложил Ванька.
— Прошу, гость дорогой, в столовую избу хлеба-соли отведать, — сказал хозяин.
— Ой, уж, право, не знаю — сытехонек я.
— И полно! Этакий конец от Москвы проехал да сытехонек. Пойдем, пойдем, не чурайся — обижусь.
— Что с тобой делать! Пойдем уж, — промолвил Дмитрий Иванович, поднимаясь.
Бояре закусывали долгонько. С легкой руки Анфисы Захаровны, которая, как подобает гостеприимной хозяйке, поднесла гостю первую чарку, Дмитрий Иванович и Степан Степанович приналегли на напитки, мешая и мед, и наливку, и «зелено вино», и заморские вина.
Когда они поднялись из-за стола, их лица были красны, как кумач, а ноги приобрели нехорошую способность спотыкаться на ровном месте.
— Так ты, брат, того, помни об обещанье, а только молчок пока что, — заплетающимся языком бормотал Кириак-Лупп, прощаясь со Степаном Степановичем.
— Ты-то, скажи, друг ты мне — али нет? — бормотал тот.
— Ну, вестимо ж, друг.
— Так и верь другу. Как сказано, так и сделается, а я никому ни гу-гу.
Когда Дмитрий Иванович, поддерживаемый под руки холопами и сопровождаемый хозяином, спускался с крыльца, чтобы усесться в свой возок, из сада выбежала Катя и, увидев гостя, остановилась как вкопанная.
Кириак-Лупп уставился на нее масляными глазами.
— Эх, красоточка! — проговорил он и причмокнул губами.
— Ядреная девка, точно, — заметил Степан Степанович и крикнул: — Катька, подь сюда!
Девушка смущенно приблизилась.
— Поцелуй друга моего любезного! — приказал отец.
Кириак-Лупп отер губы, Катя отстранилась.
— Что ты, батюшка?!
— Целуй, коли сказываю! Может, тебе он еще поболей, чем друг, станет…
— Тсс!.. — замахал руками Дмитрий Иванович. — Молчок! А коли девица боится, так мы сами ее…
И он обнял боярышню, привлек к себе и поцеловал в губы. Катя от этого поцелуя испытала только гадливое чувство, Кириак-Лупп захихикал, и глаза его еще больше замаслились.
Боярышня тотчас же поспешила скрыться в сени, а Дмитрий Иванович посмотрел ей вслед и пробормотал:
— Мед, а не девка!
После этого наконец он окончательно распрощался со Степаном Степановичем.
Высокая, худощавая, несколько неладно скроенная боярыня сидела за питьем утреннего сбитня. Тут же за столом сидел Александр Андреевич Турбинин. Между ним и боярыней было заметно сходство в чертах лица. Молодой боярин как будто несколько волновался. Он то опускал кружку со сбитнем и взглядывал на боярыню, будто собираясь что-то сказать, то опять принимался за сбитень. Наконец он решительно оставил кружку.
— Матушка!
— Что скажешь?
— Давно сбираюсь потолковать с тобой я малость.
— А ты не сбирайся, а толкуй.
— Надумал, вишь, я… Потому, говорят, не подобает быти человеку единому… — тянул Александр Андреевич.
Лицо его матери, Меланьи Кирилловны, стало серьезнее.
— Ну?
— Хочу я себе жену сватать.
— Доброе дело! Не раз уж я тебе говорила об этом, а ты все отлынивал. Невест и не перечтешь тут…
— У меня на примете есть.
— Кто такая?
— Дочка Степана Степановича Кречет-Буйтурова.
— Ну, эта, пожалуй, у тебя мимо носа проедет.
— Это почему?
— Ведом мне нрав Степана Степановича — корыстный старик. Он зятька себе метит побогаче подобрать.
— С отцом в дружбе был, опять же и меня любит, да и уж будто я — такой бедняк? Сдается мне, что он не прочь будет породниться.
— Что попусту толковать? Там видно будет! Вот как придет Феоктиста, так и пошлю ее сватать за тебя Катю…
— Чем ждать ее, лучше б ты сама съездила, матушка.
— Съезжу и я, только наперед надо сваху послать.
Дня через два после этого разговора сидела у Анфисы
Захаровны Кречет-Буйтуровой маленькая худощавая старуха в темном сарафане и синем повойнике на голове. Блеклые глаза ее так и бегали. Говорила она сладким голосом; улыбка, казалось, никогда не покидала ее тонких губ.
— Ты не хлопочи, матушка Анфиса Захаровна. Я ведь так, мимоходом, спроведать забежала. Шла, это, мимо, дай, думаю зайду…
— От хлеба-соли, Феоктистушка, не отказываются, — ответила боярыня, между тем как Фекла уже уставляла стол разными яствами.
— Ты отколь же шла?
— Да к Москве пробираюсь — давно уже чудотворцам московским не кланялась.
— Доброе дело, Феоктистушка, — сказала Анфиса Захаровна, а сама подумала: «Как пить дать свахой пришла… Только от кого?» — В Москве будешь — за нас, грешных, помолись.
— За своих благодетелей да не помолиться!
— Пожалуй за стол, Феоктиста.
— Ох, уж не знаю, как я и есть буду? — сказала сваха, помолившись на иконы и садясь за стол.
— А ты принатужься.
— И то принатужусь.
Она и принатужилась так усердно, что через час половины поданных на стол яств как не бывало.
— Ох, грехи наши тяжкие! До чего я налопалась, — промолвила Феоктиста, отодвигая от себя тарелку.
— А ты б вот этого кусочек еще…
— Нет, уж уволь — в рот не идет.
— Так сбитеньку либо кваску испей.
— Кваску, пожалуй что…
— Сегодня ночевала я у Меланьи Кирилловны. Поклон она тебе прислала, — говорила старуха, прихлебывая квасок.
— Благодарствую. Здорова ли она?
— Здорова, Бога благодаря. Добреющая она боярынька, одно слово — андел!
— Да, она точно что… — ответила Анфиса Захаровна и насторожилась, чуя, что Феоктиста как будто начинает переходить к делу.
— Андел! — повторила сваха. — Вот уж верно можно сказать — будь она кому мачехой либо свекровью — чужого века не заела бы.
— Что говорить, добрая, добрая…
— А нищей-то братии как она помогает. По субботам сени полные наберется нищих-то, и всем — кому грош, кому и два… никого не обидит. Оно точно: у ней и достаточек есть.
— Чай, не велик?
— Ну, не скажи — изрядненький. Покойник так и разделил: половину всего жене, половину сыну… У Александра Андреича столько же достатка выходит, сколько и у матери евонной. Парень — не бедняк… А уж и парень! Золото, а не человек! Окромя ласки да доброго слова, ничего от него и не услышишь. И разумен, и не урод.
— Да, он — парень хороший.
— А где ж Катюша? Здесь все была…
— Ушла она к себе в горенку. Чай, за пяльцы села.
— Соскучилась, знать, с нами-то сидючи. Вестимо, девица молодая, нешто занятно ей наши речи слушать! Время-то как бежит — давно ль малой девочкой Катя была, а теперь уж невеста.
— Точно что, а только мы выдавать не торопимся.
— Чего торопиться! В вековушах не останется.
— Ну, вестимо.
— И лицом она красавица, и прикрута за ней немалая… Ведь не малая?
— Степан Степанович, чай, для дочки не пожалеет.
— Для нее пожалеть — для кого же и не жалеть? Вестимо, Катя не засидится, и зря спешить нечего, а только всё же родительскому сердцу приятней дитё свое поскорей замужем увидать, внучат поласкать.
— Это ты верно, а только народ ноне пошел все такой непутевый. Выдашь этак дочку, да потом, цожалуй, и плакаться придется.
— С разбором надо женихов искать. А только много есть и добрых парней, не все уж гуляки да сорви-головы. Вон хотя бы Александр-то Андреич — чем Катюше не пара?
И сваха пытливо уставилась на боярыню. Но Анфиса Захаровна и сама была тертый калач — лицо ее было непроницаемо, как маска.
— Молод он еще! — равнодушно промолвила она.
— Так нешто это — помеха? Чай, не стариками люди женятся.
— Так-то оно так, а только у него, чай, еще ветер в голове.
— Поищи по всей Москве другого такого разумника — не сыщешь.
— Да я его не хулю.
— И Степан Степанович, кажись, его любит.
— Мальцом знал.
— Вот видишь. Эх, ей-же-ей, что за парочка бы была их — загляденье! Он пригож — она еще пригожей, он добр — она еще добрей… Эх, будь моя воля — сейчас бы под венец их поставила!
— Мужняя воля, не моя.
— А ты б поговорила с ним.
— Поговорить можно.
— К тебе на деньках Меланья Кирилловна заглянуть сбирается.
— Милости прошу.
— Приду с нею и я.
— А чудотворцы московские?
— Успею еще побывать, коли Бог дней продлит.
— А и ловка же ты, Феоктиста!
— Хе-хе! Что за ловка! Ловчей меня люди бывают.
— А только я давно смекнула, что ты от Меланьи Кирилловны свахой прислана.