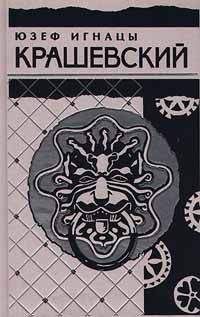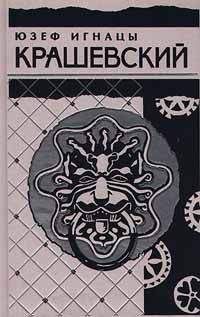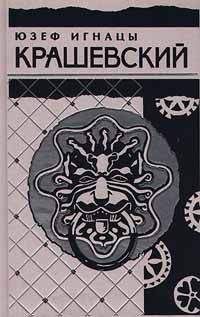Второй двор имел лучший вид: его окружали каменные постройки, а в глубине стояла высокая башня, которая в случае осады замка могла служить убежищем. Но и на этом дворе видно было удивительное хозяйство Гозберта: здесь около колодца, посередине площади стояли и лежали слуги, громко хохоча и разговаривая.
Справа и слева в графские покои вели узкие двери, расположение которых хорошо было известно Власту с прежних времен. Оставив лошадь слугам, Власт вошел направо и поднялся наверх поклониться графу… О его прибытии сыновья уже предупредили старого рыцаря…
На первом этаже, куда вела узкая и темная лестница, не в очень большом зале, потолок которого состоял из почерневших резных бревен, за столом, уставленным оловянными кубками и кувшинами, как раз сидел старый граф, окруженный своими гостями. Обед подходил к концу, и рыбьи кости, оставшиеся на блюдах, свидетельствовали о том, что пост был строго соблюден… а по лицу Гозберта видно было, что он усердно заглядывал в кувшин с медом.
По правую сторону графа сидел в черном одеянии духовник с седой головой и серьезным суровым лицом, за ним занимал место второй священник помоложе, в глазах которого отражались ум и энергия, которую еще не успела убить борьба… У обоих на груди на цепях висели золотые кресты… Немного дальше с еле расцветшим личиком, с опущенными вниз глазами, смиренно сидел молоденький священник, желая как можно меньше обращать на себя внимание…
По левую руку Гозберта, развалясь, с выражением надменности в лице, одетый в кожаный кафтан, с колоссальными усищами, черными волосами на голове сидел рыцарь, как будто только что скинувший свои доспехи, он посматривал на всех присутствующих с пренебрежением.
Дальше у стены, как бы прячась в ее тени, сидел какой-то воин, очень похожий на развалившегося рыцаря, но гораздо скромнее его… Додо и Берто, только что вернувшись с прогулки, стояли возле своего отца…
Сквозь узенькие окна с застроенного двора в горницу проникал очень скудный свет, что придавало ей какой-то грустный вид. В глубине ее находился неуклюжий, широкий, невероятных размеров камин, в котором горел теперь огонь. Под его очагом свободно и удобно могло поместиться несколько рыцарей… Пара колоссальных полен догорала в глубине его.
На одной из стен в комнате висело большое деревянное распятие, одетое до колен в белую рубашку, с волосами, которые скульптор, не доверяя своему умению, предпочел заменить натуральными… Неуклюже вырезанная, эта фигура была просто страшная и на самом деле производила удручающее впечатление. На остальных стенах были вполне мастерски нарисованы яркие цветы и листья, среди которых можно было различить какие-то человеческие фигурки… Вдоль стен стояли вытесанные из дуба тяжелые скамьи и сундуки. На них лежали плащи, а только что сброшенные с себя доспехи, распоясанные мечи валялись всюду… Несколько собак ходили по комнате в поисках костей, которые им обыкновенно бросали здесь на пол.
Через открытые двери, ведущие в соседнюю комнату, можно было заметить на возвышении ложе с деревянным сводом и всю спальню графа Гозберта… Тяжелый воздух, насыщенный отвратительным запахом пива, вина, приправленного разными кореньями, и всяких блюд, наполнял эту залу, которая считалась самой парадной и большой во всем замке.
Старый рыцарь, который больше проводил время в поле, чем дома, придя к себе на отдых, все находил прекрасным.
Когда Власт подошел к старому графу, покорно ему кланяясь, то последний, обратив к юноше свое раскрасневшееся лицо, улыбнулся, а затем, указывая на место на скамье возле духовных, проговорил:
— Между своими будешь, отец Матвей… сядь, а если есть хочется, прикажи подать себе — верно еще что-нибудь найдется, а пока что — выпей… На тощий желудок это здорово… после еды здорово… во время еды здорово, и никогда это не вредит!
Говоря это, граф налил из кувшина в кубок, который почти насильно втиснул ему в руки, и Власт, тихо сказав, что пьет за здоровье и благополучие хозяина, пошел занять самое скромное место за молодым священником…
Два старших духовных лица, сидевшие на почетных местах, с любопытством устремили на него свои взоры… Скромно усевшись, Власт, отдыхая после долгого пути, имел возможность присмотреться ко всем сидевшим за столом, так как развеселившийся воин, который на момент прервал свой рассказ, немедленно стал его продолжать, привлекая к себе общее внимание. Голос, выходивший из его широкой груди, точно из бочки, звучал странно резко, но с какими-то нотами грусти и боли. На лице его лежал отпечаток равнодушия и вместе с тем гордости…
Прибытие Власта нисколько не помешало гостям графа Гозберта продолжать начатую раньше беседу. Власт, сидевший в углу, прислушивался, не вмешиваясь.
Разговор вели на тему, которая тогда наиболее интересовала немцев, а именно: о благополучии и большом возвышении саксов, о судьбе Оттона и о его покойном отце Генрихе.
Казалось, что развалившийся рыцарь с гордым лицом лучше других был осведомлен о всех делах императорского дома. Связывавшее его с ним близкое родство не мешало ему критиковать и зло насмехаться над всеми его членами, которых он, по-видимому, недолюбливал и недоброжелательно к ним относился.
— Вы, может быть, ничего не слыхали, — говорил он, опершись рукою на стол, — о первой жене короля Генриха так как благодаря богобоязненной Матильде память о той поблекла, но все-таки люди знают и помнят прекрасную Гатебургу! Не всегда наш императорский род был так предан костелу, так набожен и богобоязнен, как теперь. Это было в то время, когда Генрих прославился победой над Гломегами и взятием их земель, расположенных по берегам Лабы… В старой части города Мерзебурга жил некий Эрвин, которому принадлежал почти весь старый город… У него были две дочери, из которых одна, Гатебурга, славившаяся своей красотою и овдовев очень молодою… прикрылась монашеским платьем… Все-таки, когда красивый Генрих предложил ей свою руку, она предпочла выйти за него замуж, чем исполнить данный ею обет. Но когда об этом узнал преподобный Сигизмунд, Гальберштадский епископ, он позвал незаконных супругов на суд собора и пригрозил им отлучением…
Насилу Генрих упросил епископа, чтобы дело отложили до его приезда. Но дело затянулось, и у Генриха родился сын Таммо. И жил Генрих с прелестной Гатебургой, пока не познакомился с младшей и привлекательной Матильдой… И только тогда, когда его сердцем завладела юная и обладающая при этом большими деньгами девушка, Генрих вспомнил, что его первый брак незаконный и грешный, и, бросив старшую Гатебургу, женился на Матильде, матери императора Оттона.
— Это не тайна ни для кого, — вдруг серьезно проговорил старший священник, — людям свойственно делать ошибки… но лучше поправить их поздно, чем продолжать жить в грехе… Что касается богобоязненной Матильды…
— Я преклоняюсь перед этой дамой, — перебил его Вигман, — но когда славят добродетели Генриха, то отчего бы мне не вспомнить о его легкомыслии?
— О человеческом легкомыслии, — ответил священник, — лучше молчать, чтобы другие не осмеливались ему подражать.
— Досточтимейший отец, — ответил Вигман, — ни молчание не поможет, ни болтовня не повредит, люди всегда останутся только людьми… А разве поведение нашего теперешнего властелина не подлежит никакой критике?
Этот вопрос, сделанный в очень шутливом тоне, был встречен общим молчанием; только хозяин дома, посмотрев исподлобья на императорского родственника, проворчал:
— А в чем вы его упрекаете?
— Да разве он не коварно поступил, отбивая красавицу-вдову Людовика Лангобардского, на которой должен был жениться Беренгари?
— Как отбил? — перебил его Гозберт. — Беренгари ведь заключил Аделаиду в темницу, морил ее голодом и силою хотел заставить любить себя. Ее освободил из жалости наш император… который по дороге в Рим забрал ее с собою, а когда убедился, что и она его любит, то почему же им было не соединиться?…
— Как отец, так и сын, — с иронией заметил Вигман, — особенно были расположены к красивым и богатым вдовам… Прекрасная Аделаида могла дорого обойтись Отгону, так как сын восстал против этой женитьбы, боясь, что от нее могут появиться дети, и тогда часть наследства перейдет к ним…
— Отчего вы лучше не говорите о великих заслугах нашего властелина, — вмешался священник, — о его храбрости, добродетели, о его необычайной отваге, благородстве, о том, как он сумел усмирить сына и покорить Беренгари, покорить всех своих врагов, отогнать угров, расширить границы своего государства и, овладев столицей мира, Римом, надел императорскую корону…
— Отец мой, — воскликнул Вигман, — пока человек живет, дело не кончено… Милостивейшему цесарю уже два раза пришлось ездить в Рим, чтобы навести порядки и одних свергнуть, а других посадить на апостольском троне… Кто знает, что еще может произойти?