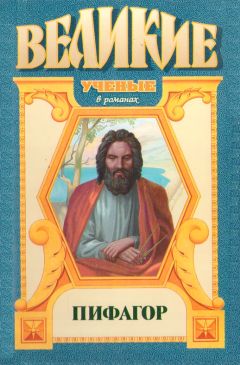— Не каркай! — воскликнул Эвном. — Спартанцы зря обещаний не дают. Будем надеяться на удачу. Но вот, я вижу, зажёгся костёр. Пойдём обогреемся.
Позади остался холм, напоминающий каменоломню. Из бесформенных, заросших плющом развалин поднималось некое подобие ворот с изображением вздыбленных львиц. Это было всё, что судьба оставила от златообильных Микен.
Дорога через низину вскоре привела к невысокому строению, в котором угадывался храм. Сойдя на обочину, Пифагор обратился к своим спутникам:
— Давайте соберём для Геры цветы и поднесём ей, владычице городов и героев, супруге Зевса.
И вот уже они у колонн святилища с охапками полевых цветов. Но вход преградила старуха в белом одеянии со злым сморщенным лицом.
— С цветами внутрь нельзя, — проговорила она хриплым голосом.
— А с чем можно? — спросил Пифагор.
— С жертвами, чужеземцы. Вступая в теменос, вы должны бы видеть коров и телят, трёх павлинов. Кукушки уже раскуплены. Приобретя что-либо из имеющегося или же изображения животных и птиц из серебра, бронзы, глины или дерева, вы сможете лицезреть нашу Геру.
— А я уже её видел, — сказал Пифагор — Ведь у нас на Самосе копия ксоана вашей Геры. Её привёз мой предок Анкей.
Старуха отступила.
— Самосцы, входите, но ваши дары оставьте у входа. Мы их скормим возлюбленным Герой животным.
Опустив цветы на землю, Пифагор и его спутники вступили в храм. Он встретил их полумраком и блеском пожертвованных владычице драгоценностей.
Жрица семенила сбоку, поясняя:
— Эта золотая кукушка — дар владыки Коринфа Периандра. Он отметил им одну из своих побед. Это изображение павлина из драгоценных камней на серебре — приношение посетившего наше святилище царя Лидии Креза. А эта деревянная раскрашенная корова с золотыми рогами — дар фараона Амасиса, переданный священным посольством.
Когда дошли до оружия, Пифагор, вглядевшись в один из старинных щитов, воскликнул:
— А это мой щит!
— Твой? Но это же дар самого Менелая, лжец!
— Ты меня не поняла, почтенная. Ведь я не сказал, что принёс этот щит в храм. Но щит принадлежал мне, когда я был Эвфорбом, троянцем Эвфорбом, и прибыл я к ныне разрушенным стенам Микен, чтобы освободить свою невесту, захваченную Менелаем и переданную им брату Агамемнону.
— Но кто ты такой?! — воскликнула старуха.
— В этой жизни я Пифагор, сын Мнесарха.
— Слушай, Пифагор, или как там ещё тебя, вот уже четыреста лет как в храме ведётся летопись, куда заносится всё самое существенное, а о поединке под Микенами записи нет.
— Но Эвфорбом я был семьсот лет назад, когда ещё не было финикийского письма, которым мы ныне пользуемся, и я прошу тебя возвратить мне мой щит. Ведь Менелай одолел меня не силой, а коварством.
— Если это твой щит, не болтай, а представь доказательства.
— Согласен. Ты же поклянись, что, если они будут, возвратишь мне мою собственность.
— Гера свидетельница, ты это получишь.
— Итак, поверни щит, и ты сможешь прочесть моё имя, а не Гектора или Диомеда. Но, повторяю тебе, оно будет написано древними письменами, где каждый знак передаёт целый слог — не торопись поворачивать.
— Мне это трудно понять. Но если на щите действительно будут три знака, ты меня победил.
— Договорились. Теперь можешь поворачивать.
Жрица повернула щит и торжествующе проговорила:
— Тут нет никаких знаков. Ни трёх, ни четырёх.
— Так ты их не найдёшь. Ведь щит скреплён в этом месте пластиной из слоновой кости. Сейчас я её приподниму. Вот эти три знака. Смотри!
Жрица остолбенела. В морщинах лба выступил пот.
— Это чудо! Чудо! — забормотала она. — Чудо в храме, сотворённое Герой-владычицей. Это она привела тебя в храм. Но я слышу голоса. Пойду поведаю о чуде другим.
— Конечно, иди. А щит пусть останется здесь навечно, только не забывай сообщать посетителям, что это щит Эвфорба, когда-то пожертвованный в святилище Геры его победителем — царём Менелаем, затем возвращённый законному владельцу Эвфорбу, ставшему в новой жизни Пифагором.
— Да ты чудотворец... — то ли с восхищением, то ли с осуждением протянул Эвпалин, когда они остались одни. — И как тебе такое удаётся?
Пифагор загадочно улыбнулся:
— Поразмысли над этим в пути.
— Ты опять прочитал мои мысли! — воскликнул мегарец. — У меня и впрямь длинная дорога: сначала Коринф...
— А потом Сузы, — вставил Пифагор.
— И это верно, — продолжил Эвпалин. — У царя царей великие планы. Может быть, найдётся и для нас с Мандроклом хоть какая-нибудь работа. А ты-то куда?
— Пока в Навплию, к отцу. А там в ненавистные тебе Афины за мудростью.
— Обери их до нитки! — выкрикнул Эвпалин не то в шутку, не то всерьёз.
В то утро самосцы заметили с городских стен и с кровель приближающиеся столбы пыли. Нет, это не овечье стадо, гонимое до наступления жары в горы, а воины из города, не имеющего стен, ибо лучшая его защита — доблесть мужей. И вот уже луг по обе стороны Священной дороги запылал от блеска вражеских доспехов. Мог ли кто год назад и помыслить о том, что недруги будут грозить городу не с моря, а со стороны Герайона, может быть уже ими захваченного и разорённого. Оставалось надеяться на крепость городских стен и искусство критских стрелков. Но где же они, эти наглые чужеземцы, которых Поликрат все эти годы содержал на средства города для защиты собственной власти? На стенах их не более сотни. Неужели тиран увёл наёмников оборонять и без того неприступную Астипалею, оставив город без защиты?
Наступающие всё ближе и ближе. Уже видны их яростно пылающие глаза и полуоткрытые рты. Уже слышна их песня.
Вражеских полчищ не ждите, о граждане Спарты.
Мы на чужой стороне вас прикрываем от бед.
И вдруг город огласился ликующими криками. Из-за холма показались критяне. Их вёл сам Поликрат, окружённый телохранителями в синих гиматиях. Засвистели стрелы. Сейчас спартанцы будут прижаты к стенам и расстреляны с двух сторон. Но так могло показаться лишь тем, кто не встречался со спартанцами на поле боя.
Прозвучала команда Дориэя. Спартанцы развернулись и, чего трудно было ожидать от тяжеловооружённых, стали наступать короткими перебежками, явно стремясь отрезать критянам отход к холмам. При виде угрозы Меандрий приказал открыть ворота, и критяне во главе с Поликратом устремились к ним. Но ещё до того как опустился щит ворот, двое спартанцев, отделившись от вождя, бросились вдогонку беглецам. И им одним удалось ворваться в город.
Это были Архий и Либон, На глазах граждан в самом городе развернулся бой двоих против всех. Став спинами друг к другу, храбрецы отражали нападение критян и сразили и ранили многих, пока не пали на том же месте.
Сразу же, спустившись с холма в низину, Пифагор услышал ребячий визг. Судя по всему, мальчики играли в войну. Те, кто залез на поваленное дерево, — осаждённые, носившиеся вокруг, крича и угрожая палками, — осаждающие.
«Конечно же я у цели, — решил он. — Кто же ещё на Пелопоннесе может изображать осаду и при этом выкрикивать по-ионийски, как не дети самосских изгнанников?! Разумеется, никто им не рассказывал, что Пелопоннес был когда-то родиной их предков, покинувших полуостров, чтобы сохранить свою свободу и речь. Но зато им известно, что их отцы и старшие братья воюют с такими же ионийцами, как они сами, в союзе с теми, кто говорит на дорийском наречии, кто превратил всех остальных, не сумевших переселиться, в илотов. Они, наверное, ещё не обучены счёту, но уже усвоили урок, что Полемос[49] — отец всего. Наверное, он возник вместе с Эросом, как его пара, а потом уже появилось всё остальное — белое и чёрное, сладкое и горькое, жизнь и смерть».
Увидев постороннего, дети замолкли. Те, что были на дереве, сошли вниз и смешались с остальными.
— Воины! — обратился к ним Пифагор со всей серьёзностью. — Простите, что ненароком помешал. Нет ли среди вас сыновей Эвнома?
Вперёд выдвинулся толстощёкий мальчик лет десяти с палкой в руках.
— Ты, наверное, мой дядя Пифагор? — спросил он.
Пифагор улыбнулся.
«Какое простое, доброе и неожиданное слово», — подумал он.
— Да, ты не ошибся. А теперь, сын Эвнома, поведи меня к своему деду Мнесарху. Он, наверное, уже не надеется на встречу со мной и обольёт меня слезами. А потом... а потом ты сможешь вернуться защищать свой Самос, ибо, кажется, разговор предстоит долгий.
Разговор был и впрямь долгим. Если раньше отец мало интересовался двадцатилетними странствованиями сына, об этом последнем, длившемся менее года, он хотел знать всё, особенно то, что произошло после прибытия в Эрик, ибо о том, что было раньше, он успел выспросить у Леонтиона.