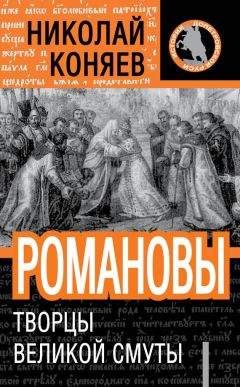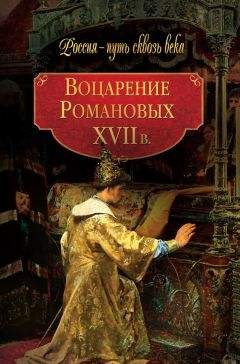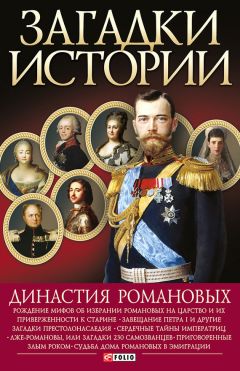— Дело говоришь, Михеич! — весело отозвался другой стрелец, помоложе.
Мальчишка поставил на стол муравленый[73] горшок, наполненный водкой, и небольшой ковшик. Михеич разлил им водку по стопкам.
— Откуда рубец у тебя, немчин? — спросил он.
— Этот? — спросил Эхе, — ваш русский побил, в Москве когда были.
— Эге-ге, — усмехнулся Михеич, — может, и мой бердыш. Я тогда с князем Пожарским у Никитских ворот с немцами бился.
— Жарко было! — сказал Эхе. — Кругом горит, все кричат… тут русский воин, там русский… и меч, и смола, и камни.
— А ты что ж думал, немчин, что мы матушку-Москву вам, псам, отдадим? — подходя пьяной походкой, спросил ярыжка.
— Я ничего не думал. Я служил у генерала Понтуса Делатарди, а он — у генерала Гонсевского служил!
— Ну вот и намяли бока! — захохотали кругом.
Эхе покраснел.
— Потому что поляк глуп, — сказал он.
В эту минуту у играющих поднялся спор, потом — драка. Кружки опрокинулись, вино разлилось, дерущиеся повалились на пол. Их окружили и поощряли веселым смехом:
— Бей его, жидовина!…
— Под микитки ему!… Так его!
— За усы тяни! Завоет! — кричали зрители.
Дерущиеся поднялись с окровавленными лицами.
— Схизматик[74] поганый.
— Лях!
— Я те заткну глотку!
— Смиритесь, почтенные! — вмешался и тут ярыжка, — поцелуйтесь, православные! Будем снова играть!
Один из дерущихся словно охладел.
— А откуда у тебя деньги, ежели ты крест пропил! — спросил он.
— А вот он! — засмеялся ярыжка, показывая зажатые в кулак алтыны.
— Братцы, ограбил он нас!…-закричал тот, — пока дрались, он денежки уволок. Мои алтыны! Держи!
Но уже было поздно: ярыжка скользнул за дверь и мчался по двору так, что его подошвы хлопали, словно лошадиные копыта.
— Ну подожди, окаянный, я тебя сцапаю! — прохрипел ограбленный.
— А ты подерись еще малость!
Не ходи кума на мост,
Там провалишься,-
раздалась пьяная песнь скоморохов, и они пустились в пляс. Одна из женщин затопталась на месте, махая платком, сорванным с головы.
— Люблю! Отхватывай, Аленка! — закричал захмелевший молодой стрелец.
В это время Эхе заметил кривого рыжего и его товарища. Они пили и о чем-то спорили. Эхе перешел на другое место и сел подле них, все думая услыхать имя хорошенького мальчика.
— Волчья сыть! Пять рублей кожею дал, — сказал рыжий.
— Себе и бери ее, а нам серебро отдай, — ответил раскосый.
— Нет, брать все пополам. Кожу пропьем, а эти разделим. Эй, Аленка! — закричал рыжий.
К нему подбежала толстая женщина.
— Пить будем! Тащи красоулю!
— Важно, ой, важно! — вскрикивал купчик, глядя на пляшущих скоморохов, и, вдруг взвизгнув, сам пустился притоптывать.
Я в кусточки пошла,
Добра молодца нашла!
Стены затряслись от топота ног.
— Вот как у нас, немчин! — кричал купчик отплясывая, — умеешь так?… Уф! — И он упал на лавку, вытирая грязной рукою вспотевший лоб. — Будет плясать! — сказал он, — пить станем. Всех пою! — Молчаливый до времени, он стал теперь амфитрионом[75] и, разливая всем по кружкам водку, заговорил с каждым. — Пирование теперь у нас будет… Эх!
— Закурим! — отозвался угрюмый подьячий.
— Чай, и вы за тем сюда пришли? — спросил Михеич скоморохов.
— Вестимо, за тем же, — ответил раскосый — товарищ рыжего, — теперь, говорят, на площадь-то мед, пиво выкатят, на три дня гулянка!
— Слышь, из тюрем выпустят!
— Всем ярыжкам награда будет!
— Ну?
— Кому плетью, кому просто тычком!
Все засмеялись.
— Что же будет завтра? — спросил начинавший хмелеть Эхе.
— Ах, ты, немчин, немчин! — с укором сказал купчик, — завтра наш царь-батюшка своего батюшку встретит. Из полона вызволил его, от ляхов поганых[76]!
— Нас-то завтра по всей дороге вытянут. Стой! — гордо заявил молодой стрелец.
— А вы, чай, к Федьке за ребятишками? — спросила тем временем толстая баба у рыжего.
— Вестимо, не без этого, — ответил он, — калечных надо да плясунишку.
— Есть у него, есть! — сказала та, — намедни он их штук шесть купил. Жмох!
— Уж это как быть должно!
Компания хмелела. У Эхе уже слипались глаза. Размалеванная женщина шептала ему:
— Возьми с собой в клеть!
— Идем! — ответил Эхе и встал, шатаясь от выпитой водки.
Купчик хотел с ним поцеловаться, поднялся, но тут же покачнулся, упал под стол и моментально захрапел.
Женщина провела капитана в клеть, что стояла особняком в глубине двора, но Эхе не мог заснуть, несмотря на выпитое им. Он снял тяжелые сапоги и латы, отвязал меч, но из осторожности не снимал кушака и камзола. Ему было невыносимо душно в тесной клети, он вышел на двор, обошел избу и вошел в сад, тянувшийся позади нее. Бродя по саду, он наткнулся на большой деревянный сарай с маленькими оконцами.
Чем— то таинственным, мрачным веяло от этого здания, запрятанного в чаще, особенно теперь, среди ночной тишины и мрака. Эхе, положив руку на нож, осторожно обошел вокруг сарая и уже хотел уйти, как вдруг в стороне послышались шаги. Он спрятался за дерево и увидел Федьку Беспалого. Тот вел за руку мальчика и говорил ему:
— Ну, ну, не хнычь! Здесь много таких же мальчишек… и девчонки есть. Тебе весело будет!
— Мамка моя! Мамка моя!… Не хочу тут быть! — тихо воскликнул мальчик, задыхаясь от слез.
— И мамка сюда придет! Ну, иди, что ли! — и, отворив дверь сарая, Федька толкнул туда мальчика и снова запер дверь висячим замком. Эхе вышел из засады, когда Федька удалился, и неохотно побрел в свою клеть. В своей походной жизни он видел всякие виды и приучился не вмешиваться в чужие дела, но этот мальчик и его участь как-то интересовали его помимо воли. Он вошел в клеть, но спать уже не мог и беспокойно ворочался с боку на бок. Наконец он встал, надел латы, взял шлем, опоясался мечом и вышел на двор, а потом на пустынную улицу.
Князь Теряев-Распояхин во время своего пребывания в Москве всегда гостил у Федора Ивановича Шереметева, начальника вновь основанного аптекарского приказа, с которым сдружился после неудачного похода под Новгородом против Делагарди; тогда князь был ранен и лечился через него у Дия.
Федор Иванович души в нем не чаял, отчасти чуя в своем друге могучую силу и недюжинный ум, и отвел ему две горницы в своем доме в Китай-городе.
Сейчас, после разорения, построил ему эти хоромы немец из слободы. Затейливо они были выстроены: с теремами, с башенками, с клетями и холодушками, с расписными печами внутри и затейливыми балясинами снаружи. На обширном дворе раскинулись еще добрый десяток изб да бани, да сараи, потому что Федор Иванович держал до полутысячи человек челяди, как подобало в то время знатному человеку.
Князь Теряев не чувствовал у него ни малейшего стеснения и, случалось, даже не видел своего хозяина по нескольку дней, но теперь они все время были неразлучны.
Царь Михаил любил их, отличал пред прочими; они в совете помогали составлять порядок встречи возвращавшегося Филарета Никитича, и царь поручил князю Теряеву оповестить его о приближении высокого пленника к Москве.
С раннего утра уезжали князь и Шереметев из дома: один — в приказ и боярскую думу, как единственный государственный человек, другой — к царю для беседы; сходились они лишь за обедом и тут говорили о делах государских.
Оба они одинаково радовались возвращению твердого, решительного, смелого умом Филарета.
— Конец царевым приспешникам, — говорили они, — будет! Посидел царь-батюшка под бабьим началом, теперь в другие руки владычество перейдет!
И эту радость смутно делили с ними все русские.
Еще чуть брезжило утро, когда Влас скорее свалился, чем сошел, с коня пред домом Шереметева и стукнул кольцом.
— Кто стучит? — спросили его.
— Господи Иисусе Христе, помилуй нас! Власий, смерд князя Теряева!
— Аминь! — послышался голос, и калитка отворилась.
— Куда коня поставить? В доме ли князь-батюшка? — спросил Влас.
— Коня-то во двор, там коновязь есть, — ответил сторож, отворяя ворота, — а что до князя, то оба только обедню отслужили и тотчас наверх[77] поехали.
Влас видимо ожил:
— А стремянной его, Антон?
— Тот здесь. Вот четвертая изба под ваших людишек отведена. Там и коновязь.
— Прости, Христа ради! — сказал Влас и, ведя коня, с непокрытою головою пошел по указанному направлению.
— С Богом! — ответил сторож, затворяя тяжелые ворота.
Влас дошел до большой, просторной избы и, привязав коня, стукнул в дверь.
— Господи Иисусе Христе, помилуй нас.
— Аминь! — ответили изнутри.
Влас отворил дверь и вошел в избу. Охрана Теряева — большей частью бывшие шиши в Смутное время — сидела за столом и хлебала любимое толокно из большой мисы. Увидев Власа, все радостно загалдели: