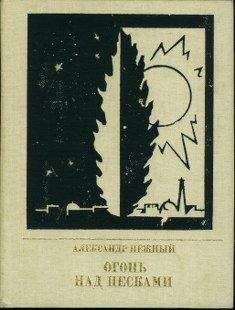Со временем о ее предательстве узнали. Есть основания полагать, что позаботились об этом именно те, кто так ловко воспользовался страхами и надеждами ее беззащитного сердца. Но как бы там ни было, с тех пор наступили и по сей день продолжаются для Серафимы Александровны годы непрестанных мучений. Диодор гнал ее — она возвращалась; унижал ее — она терпела; выражал ей свое отвращение — смиренно принимала она и это. И если она и жива еще, задумчиво молвил Савваитов, то лишь верой, что преданности и любви дана сила разрешить горечь, сокрушение и отчаяние. И может быть, случаются у них сокровенные, тайные минуты, словно бы выпавшие из течения времени, не имеющие ни прошлого, ни настоящего, лишенные будущего… Тогда сбываются упования Серафимы Александровны, тогда растворяется его ненависть, и крепнет, готовясь терпеть новые поношения, ее любовь.
Вот какую историю поведал своим гостям Савваитов, и они довольно долго молчали, вероятно, ее обдумывая. Наконец Дмитрий Александрович Ковшин заметил:
— Ненависти, как и любви, нужен объект. Клингоф, как вы говорите, ее ненавидит, но ведь это одновременно значит, что без нее он теперь своей жизни не мыслит.
— Правда, — вздохнула Аглаида, и Полторацкий, как бы впервые увидев и услыхав ее и всем существом своим заново перечувствовав прелесть ее милого, строгого, ясного облика, с благодарностью подумал вдруг, что такого счастья никогда не бывало у него прежде… Никогда — во всю жизнь! Он даже голову опустил, стыдясь невольной и, должно быть, глупо-блаженной своей улыбки.
Между тем Ковшин продолжал — сначала медленно а трудно, словно преодолевая какое-то препятствие в себе самом, но постепенно все с большей легкостью и свободой ведя свою речь:
— Вообще… Ненависть… Небратство… Я иногда думаю… с отчаянием… что люди только для взаимной ненависти и существуют. Для ненависти и самоистребления. Да… И повторяю — вслед за Филаретом, митрополитом и великим печальником… увы, глупый род человеческий, как немного уразумел ты тайну и цель бытия твоего на земле и как мало приблизился ты к своему высокому назначению! Человек, — возвысив слабый голос, произнес Дмитрий Александрович, в бледно-голубых, прозрачных глазах которого появлялось и крепло удивительное выражение доброты, горечи и всепонимания, — человек есть частичка всеобщего. И как частичка всеобщего он должен, наконец, ощутить грозящий миру распад! Силы нашего мира рассеиваются, угасают… Меркнет, хоть и медленно, наше солнце… Земля истощается… Несчастная наша земля… Общее бодрствование, общий труд, соединение мучительно разъединенных ныне мысли и дела — только так можем мы спасти землю и себя, только так можем достичь всеобщего блага. Однако до сего времени человечество рыло яму само себе, ибо цивилизация, которую оно создало и которой столь надменно кичится — это безмерное надругательство над природой и лишенное всякой мысли расточение ее… Иными словами — ускорение конца! Мелочность и пошлость, — брезгливо передернув плечами, произнес Дмитрий Александрович, — вот отличительная черта нашего позитивно-мануфактурного века. Все меряется деньгами, все продается и покупается, торговая зараза, которая хуже, страшней, гибельной бубонной чумы, распространяется во все части света, и люди под ее влиянием перестают быть людьми, они становятся существами без рода и племени, забывшими своих отцов и готовыми все! буквально все продать — свой талант, свою душу, родные святыни и могилы!
Все это было весьма удивительно. Один лишь Николай Евграфович Савваитов, по-видимому, посвященный в мысли Ковшина, внимал ему, время от времени согласно кивая головой и глядя на Дмитрия Александровича с горячим умилением, остальные со все возраставшим изумлением слушали худенького старпчка, спокойно и твердо выносившего свой приговор человечеству, предвещавшею ужасное оскудение земли и совершенно убежденного в том, что единение во всеобщей любви избавит человечество от всех бед.
Наконец, улыбнувшись, сказал Полторацкий:
— Времена меняются, Дмитрий Александрович. И человек сейчас, по всей России и здесь, в Туркестане, твердо сказал, что по-старому, в бесправии, в угнетении прозябать не желает. Все вокруг сдвинулось, все перемешалось, а вы перед собой будто одно только прошлое видите… Все меряется деньгами, вы говорите? А я вас спрошу — где меряется? в каком обществе? И если вы мне ответите, что у нас, в Советской России, то я вам на это заявлю, что вы либо заблуждаетесь, либо попросту слепы.
Протестующе вскинулся при этих словах Савваитов, но Полторацкий его остановил.
— Погодите, Николай Евграфович. У меня всего два слова еще. Я хочу сказать, что когда капитал людей гнет, они и в самом деле людьми перестают быть. Но мы, власть капитала над человеческой душой упразднив, человеку его достоинство возвращаем… Любовь, вы говорите… Всеобщая… Кого — и к кому, Дмитрий Александрович? Угнетенного к угнетателю? Не было этого никогда и не будет. А будет всегда стремление угнетенного от угнетения избавиться… борьба будет, Дмитрий Александрович, и она в России идет. И нельзя… невозможно от нее в стороне остаться… Никому! — с силой сказал Полторацкий. — Каждый из нас должен свой выбор сделать… и чем раньше, чем тверже — тем лучше.
— Я убежден в другом, — ответил Ковшин. — Я уверен, что братское служение общему делу, в котором соединятся люди, предаст забвению раздоры и войны.
Предмет чрезвычайно серьезен, строго сказал Дмитрий Александрович, и тут же отметил с горечью, что важная честность в обсуждении наисущественнейших вопросов нашего бытия ставится ныне удручающе низко. Мы стали бояться глубины, ибо чувствуем сердцем, что постижение сокрытых в ней истин поставит нас перед необходимостью изменить свою жизнь, столь милую нам прежде всего ее нравственной нетребовательностью. Так вот — надо подчеркнуть возможность братского единства людей и попять, что только собирание — собор — сил для борьбы со слепой, неразумной мощью природы, только это явится приемлемым, достойным и насущным поводом для такого единства. Для России, страны по преимуществу земледельческой и потому стоть подверженной пагубным действиям атмосферы, первая цель общего дела, в коем объединились бы все сословия, — изучить, а затем и управлять слепой силой, производящей неурожаи, голод и болезни. Да, управлять, — твердо произнес Дмитрий Александрович, пристукнув сухоньким кулачком. Глаза его при этом вспыхнули.
Слова худенького старичка, вообще необычные, вызвали сейчас немалое недоумение. «Дождем разве можно управлять?» — высказал свое сомнение Юсуф Усмансуфиев, обратившись, правда, не к Ковшину, а к Савваитову, Николай Евграфович обнадеживающе кивнул, сияющим взором указал на Дмитрия Александровича и снова кивнул, приглашая внимать чудесным речам. Ковшин же, услышав возглас Усмансуфиева, отвечал без всяких околичностей, что можно и что в России, и в особенности в Европе, совершались соответствующие опыты, приносившие результаты весьма обнадеживающие. «А стрельба из мортир по грозовым тучам?! Градобойни?! — он воскликнул. — Разве это не вмешательство разумной силы в слепой метеорологический процесс?»
Полторацкий видел, как удивленно расширились ясные и печальные глаза Аглаиды и как, весь подавшись вперед и даже чуть побледнев, внимал диковинным речам худенького старичка Юсуф Усмансуфиев. Один лишь Савваитов был торжественно-спокоен. Правда, взгляд его выдавал некоторое волнение, но вызвано оно было исключительно вдохновением, а также горделивым сознанием своей избранной посвященности в эамыслыи прозрения Дмитрия Александровича. Объединившись в общем братском деле, продолжал Ковшин, вполне овладев слепыми силами природы, внеся разумное начало в прежде стихийное и злобное действий ветров и бурь, прекращая по воле своей многодождие и заменяя великую сушь обильным млеком небесных коров, человечество приготовится, наконец, к разрешению своей главной задачи. Это, может быть даже чересчур спокойно вымолвил Ковшин, и есть деятельное единение во всеобщей любви — единственно достойная для всех ныне живущих цель. «Да! — не стерпев, восторженно воскликнул Савваитов, с любовью и преданностью глядя на Дмитрия Александровича. — Именно так! Ведь это же в природе нашей — любить человека. Но мы заглушаем… мы вытаптываем это чувство, не даем ему проявиться».
Дмитрий Александрович, вероятно, ждал отклика и от других, — но непросто было собраться с мыслями, услышав в зти дни о необходимости деятельного единения во всеобщей любви. Первой заговорила Аглаида:
— Это мечта… мечта прекрасная, — глухо сказала опа. — Я понимаю… не умом, всем сердцем понимаю ee притягательную силу… Но, Дмитрий Александрович, ведь эи только мечта! Я в Христа верую, и в воскресение его верую, но ведь человеку вполне христианином надо стать, Чтобы… — Она взглянула на Савваитова. — Я что-то не так говорю, не то, но я знаю, поверьте, Николай Евграфович, я знаю, что человек по-другому должен жить! Но вокруг так все устроено… Мелочность и пошлость, Дмитрий Александрович правильно сказал. И еще низость, ложь и жестокость! И как тут вырваться, как освободиться… Мои брат, хороший, добрый, чистый человек, но ведь он именно потому, что добр, чист и доверчив…