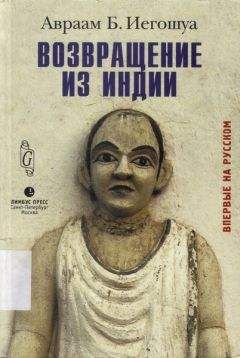Но каких страданий? Каких обид? — удивленно шепчет мальчик. В том-то и дело, тотчас отвечает рав, широко улыбаясь. Не было никаких страданий и не было никаких обид. Именно это он и намерен втолковать новой жене Абулафии, чтобы она отменила свою ретию против товарищества Бен-Атара. И сам Бен-Атар именно ради этого так долго качался на океанских волнах, причем не один, а взяв с собой обеих своих жен, чтобы и они тоже свидетельствовали в его пользу. И с той же целью он нанял его, рава Эльбаза, — пусть он словами Торы докажет, что даже Господь видит, что две жены — это хорошо. Ибо новая жена господина Абулафии весьма считается с мнением Господа. А если еще и мальчик — и тут рав подмигивает своему сыну, — если еще и маленький мальчик, в свою очередь, засвидетельствует, что между обеими женами всю дорогу царили покой и согласие… Но похоже, что маленький Эльбаз потрясен намерением отца впутать его во всю эту историю, потому что его вдруг охватывает непонятный страх и он с неожиданной и упрямой злостью вырывается из мягких, ласковых рук отца. Нет, он ничего не хочет говорить. Ничего он не знает. Ничего он не скажет. И тут лицо рава окаменевает в растерянной улыбке — но не только из-за решительного отказа сына, но еще и потому, что именно в эту минуту в тихом и пустынном ночном переулке, где они сидят, совершенно неожиданно появляется вынырнувшая из-за угла длинная мрачная процессия христианских монахов. Закутавшись в черные одеяния и уныло распевая какой-то церковный гимн, они медленно бредут по узкому переулку, помахивая дымящимися кадилами, не то замаливая грехи минувшего дня, не то расточая пряные соблазны на день грядущий. Впрочем, вид двух чужестранцев, сидящих глубокой ночью у ворот еврейского дома, и самих монахов повергает в такое изумление, что они на миг застывают на месте, а потом, испуганно крестясь, торопливо, почти бегом, удаляются в сторону монастыря Сен-Жермен, стены которого тянутся вдоль близкого берега реки.
Звон внезапно заговоривших колоколов встречает монашескую процессию, когда она нескончаемой черной змеей втягивается в монастырские ворота, и маленький Эльбаз, вздрогнув от испуга, оборачивается к отцу и начинает молить его вернуться обратно в дом, и, пожалуйста, поскорее. Но рав весьма встревожен упрямым отказом сына добавить свое детское свидетельство в пользу двойного супружества Бен-Атара. Уж не видит ли эта невинная душа что-то такое, чего я почему-то не замечаю? — думает он, и вдруг ему приходит в голову, что сейчас стоило бы, наверно, перечитать те пергаментные свитки, которые привез ему Бен-Атар из Танжера в подарок от мудрого Бен-Гиата, — того и гляди, отыщется в них какой-нибудь подходящий стих или притча из сочинений нынешних мудрецов или же их древних предшественников, и можно будет лишний раз подкрепить ими свои доводы на предстоящем суде. И ему уже становится невтерпеж и хочется немедленно, не дожидаясь, пока займется день, вернуться на корабль, где можно будет порыться в заветной шкатулке из слоновой кости, которую он оставил в своей каюте, а заодно усмирить наконец все еще гложущий его мучительный голод, порожденный слишком долгим сном на пустой желудок.
Однако мальчик наотрез отказывается возвращаться один в чужой и темный дом. Он требует, чтобы отец взял его с собой, уверенно утверждая к тому же, что лучше знает обратную дорогу. Он не знает, что корабль, с которого они с Бен-Атаром отправились два дня назад на разведку в Париж, подошел за это время к самому острову, поэтому, даже приблизившись к судну, он вначале не узнает его и упрямо твердит, что это другой корабль, только внешне похожий на их собственный, а их корабль стоит значительно дальше. Раву Эльбазу и самому поначалу трудно переубедить сына, потому что за минувшие часы старое сторожевое судно сильно изменилось — оно как будто уменьшилось в размерах, его большой треугольный парус исчез вместе с мачтой, а дряхлые щиты и выцветшие знаки отличия, которые прежде украшали борта, пропали, как не бывало. Лишь когда компаньон Абу-Лутфи, заслышав в ночной тишине запальчивые препирательства рава с мальчишкой, внезапно окликает их с корабельной палубы, маленький Эльбаз признает наконец, что перед ним действительно то самое судно, мачта которого так часто и долго скользила между его худыми ногами, что под конец стала уже казаться частью его собственного тела.
Черного раба тут же посылают помочь вернувшимся пассажирам подняться на борт. И хотя рав сошел с корабля всего несколько часов назад, Абу-Лутфи бурно радуется его возвращению, согреваемый наивной надеждой, что, быть может, присутствие этого святого человека вернет их судну хоть некоторую благопристойность. Ибо что тут скрывать — с той минуты, как судно достигло конечной точки намеченного маршрута и бросило якорь у северного берега Сены, на палубе словно рухнули все и всякие запреты. И даже не столько из-за отсутствия хозяина, сколько главным образом из-за исчезновения тех двух женщин, молчаливое и благородное присутствие которых доселе сдерживало низменные страсти моряков. И впрямь, едва поднявшись на палубу, рав видит гору грязной, немытой посуды, сваленной в полном беспорядке, и группу пьяных матросов, лежащих вповалку вокруг капитана Абд эль-Шафи, который восседает на старом капитанском мостике, завернувшись в леопардову шкуру, самовольно вытащенную из трюма, и мычит под нос какую-то старинную песню — наверняка ту самую, под звуки которой викинги его прадеда добрую сотню лет тому назад грабили этот же самый город. Завидев поднявшегося на палубу рава, капитан неожиданно приветствует его грязным ругательством, какого ни разу не позволял себе за все время их долгого плавания, но рав Эльбаз проходит мимо, не обращая на него никакого внимания, потому что сейчас весь его ум занят размышлением, с чего ему начать — то ли поискать, прежде всего, заветную шкатулку, то ли все-таки попытаться сначала утолить невыносимый голод? Его, однако, страшит, что, попросив первым долгом поесть, он тем самым бросит тень на гостеприимство Абулафии и его новой жены, и потому он в конце концов решает, что лучше бы ему как-нибудь неприметно проскользнуть в трюм и подкрепиться там сушеными фигами и сладкими рожками, чтобы заглушить проклятый голод, который не переставая терзает его внутренности, — но в эту минуту верный Абу-Лутфи, давно уже различивший голодные мученья рава, громко приказывает черному рабу приготовить для вернувшихся ту рыбу, что матросы незадолго до их прихода поймали в речных водах.
И вот, в ожидании, пока дойдет до надлежащей готовности эта рыбная трапеза третьей стражи ночи, уже протянувшей тем временем тончайшую кисею серебристого света над погруженным в темноту Парижем, рав Эльбаз все-таки начинает с того, что отправляется на поиски своей заветной шкатулки. Он позабыл о ней с того самого дня, когда дух поэзии овладел им у иззубренных берегов Бретани, и с тех пор она напрочь выпала из его памяти. Но теперь он никак не может ее найти — ни в своей каюте, среди сваленных там в беспорядке вещей и одежды, ни в каюте самого Бен-Атара. Забравшись на старый капитанский мостик, он принимается искать свою пропажу среди канатов и корабельных снастей, заглядывает даже под ту леопардову шкуру, на которой, таращась в пьяном изумлении, развалился капитан Абд эль-Шафи, — но не находит шкатулки и там. Неужто Абу-Лутфи в своем неуемном энтузиазме сгоряча присоединил ее к вещам, предназначенным на продажу? Он пытается осторожно расспросить исмаилитского компаньона, но тот немедленно рассыпается в клятвах и заверениях, что никогда бы не позволил себе даже пальцем прикоснуться к шкатулке со святыми словами. Не захватила ли ее с собой одна из женщин? — задумывается рав. Но они ведь не умеют читать! Из почтения к ним он сначала подумывает послать в их каюты сына — так, на всякий случай, — но, поразмыслив, решает, что лучше все-таки заглянуть туда самому. Не исключено ведь, что эти поиски углубят его понимание семьи Бен-Атара какими-нибудь новыми и полезными сведениями.
Первым делом он входит в каюту первой жены, что на носу корабля, но сразу же видит, что здесь все убрано подчистую — только легкий аромат женских благовоний еще витает в воздухе. Потому ли она забрала с собой все свои вещи и платья, что опасалась бросить их здесь без присмотра, или же всерьез приготовилась к длительному пребыванию на берегу? Как бы то ни было, ее наряды по большей части отсутствуют, а что осталось — тщательно упаковано, перевязано красным шнурком и лежит себе рядом с аккуратно сложенными покрывалами. Лишь тогда он направляется на корму, в корабельные недра, и там первым делом обнаруживает маленького верблюжонка, который стоит в одиночестве и печально разглядывает маленькую парижскую мышку, уютно устроившуюся между его ногами. Поначалу раву никак не удается разыскать в темноте трюма крохотную, да еще скрытую занавеской каморку второй жены, и он долго плутает среди огромных, набитых пряностями мешков, но в конце концов находит то, что искал, дрожащей рукой отодвигает веревочную занавеску и, держа в другой руке зажженную свечу, пригнувшись, со стучащим сердцем, входит внутрь — и оказывается прямо перед незастеленным ложем, на котором в бурном беспорядке свалены женская одежда и разные другие вещи, словно хозяйка покинула это место в страшной спешке, рассчитывая скоро вернуться. И в этой-то груде струящихся меж ладонями шелковых одеяний, оставляющих на коже тонкий запах благовоний, он, как ни странно, находит наконец свою шкатулку из слоновой кости — то ли небрежно брошенную за ненадобностью, то ли, напротив, спрятанную, чтобы втайне ей поклоняться.