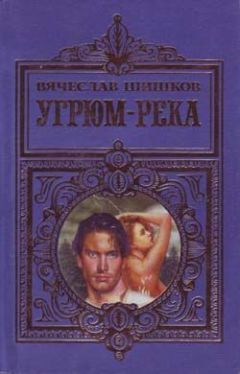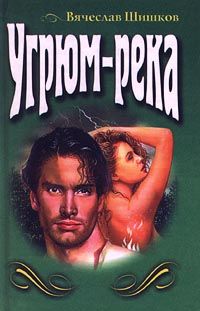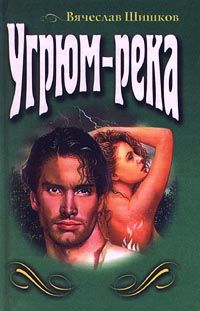– Если ты будешь мою мать бить, я пожалуюсь в суд. В город поеду, прокурору подам...
– Ой! Ой, Прохор Петрович, батюшка! – издевательски засюсюкал тоненько отец, и маска на его лице: испуг с мольбой. – К прокурору?.. Голубчик, Прохор Петрович, пощади!.. – И он захихикал, наливая глаза лютостью.
Прохору издевка, как шило в бок.
– Я не позволю злодейства!.. Это разбой!.. Погляди на мамашу, избил всю. За что?! – выкрикивал он вновь осекшимся детским голосом, руки изломились в локтях и взлетели к глазам, пальцы прыгали, и весь он содрогался. – За что, отец?.. За что? Ведь она мать мне, женщина... – Болью трепетал каждый мускул на его лице, и каждой волосинке было больно.
Отец медведем вздыбил и треснул в стол обоими кулаками враз:
– А-а-а?! Заступник? – Он грузно перегнулся через стол и захрипел: – А-а-а!..
Разинутая черная пасть изрыгала на Прохора дым и смрад. В испуге откачнулся сын, но вдруг, сверкнув глазами, тоже резко грохнул по столешнице:
– Да, заступник!
Они жарко дышали друг на друга и тряслись.
– А знаешь ты, отчего это выходит, отчего такая разнотычка в доме, ералаш?
– Знаю! – крикнул Прохор. – Из-за Анфисы!
– Ага! Догадлив...
– Стыдно тебе, отец...
– Мне? Ах ты, мразь, мокрица!.. Кого она мусолила в церкви: тебя али меня?
– Брось ее! Иначе сожгу ее вместе с гнездом...
– Что?.. Ты отца учить?!
– Я никого не боюсь... Застрелю ее!..
– А-а-а!.. – Петр Данилыч сгреб сына за грудь – посыпались пуговицы. Прохор куснул мохнатый кулак, сильно ударил по руке, рванулся с криком:
– Убью! – Побежал вон. – Убью эту развратницу!
Прохор видел, не глазами – духом, как, застонав, упала мать.
Коридор был темен. Купец схватил за ножку венский стул. Прохор бежал коридором.
– Куда? Стос... скрес... – Это пробирался в гости по стенке поп.
Стул, кувыркаясь, полетел вдогонку сыну, в тьму. Священник от удара стулом сразу слетел с ног.
Прохор – дикий, страшный – ворвался к Ибрагиму. Ибрагим храпел, как двадцать барабанов. Прохор схватил его кинжал и через кухню – вон.
Скорей, скорей, пока кровь как кинжал и кинжал как пламя.
– Убью.
Отскакивала от ног дорога, небо касалось головы, и тьма, как коридор; нет Прохору иной судьбы – в трубе. Некуда свернуть, не надо!..
Крыльцо, крылечко, домик, занавеска, огонек. Огнище. Резкий удар каблуком, плечом, головою в дверь:
– Эй, пустите! Пустите! У нас беда...
– Прошенька, ты? Сокол...
Вот поднялась щеколда, заскрипела дверь. Кинжал блеснул.
– А-а-а...
– Геть, шайтан! – И Прохор кувырнулся. – Я те покажу кынжал!..
Ненавистный и милый плыл чей-то голос: то ли тьма ворковала весенними устами, то ли снежная вьюга, крутясь, заливалась. Это плакал взахлеб на груди Ибрагима Прохор. Непослушный язык, бревна руки... Ой, алла, алла!.. Не умеет Ибрагим утешить своего джигита.
– Прохор, ты есть джигит. И мы тэбя любим... О!.. Завсэм любим... Сдохнэм... О!..
Прохор неутешно плакал, как кровно оскорбленный, обманутый ребенок. И так шли они сквозь тьму, обнявшись и прижимаясь друг к другу. Черкес сморкался и сопел.
Илюху здорово избили парни; недели две прихрамывал и втирал в левый бок скипидар с собачьим салом. Парни получили обещанную награду, впрочем, с большим от Прохора упреком: «Какие, в самом деле, дураки! Пришел человек на вечерку к девкам, подвыпил, придрались и намяли бока. Да разве так? Ведь надо было подкараулить у Анфисы. Дурачье!»
Отец Ипат тоже две недели не служил и не ходил по требам, пока не прошел на лбу синяк. Петр Данилыч подарил ему на рясу замечательной материи: по красному чуть синенькая травка. Ибрагим великолепно сшил. Что и за черкес, прямо золотые руки! Правда, ряса очень походила на кавказский бешмет, но отец Ипат был вполне доволен и рясой и черкесом. Долго с превеликим чувством тряс руку Петра Данилыча, восклицая:
– Зело борзо! Благодарю.
Да, как ни говори: у пушки край вырвало, у старухи все-таки умер Вахрамеюшка. За эти две недели случилось вот что: пришла весна.
Петр Данилыч после скандала на некоторое время присмирел: часто ездил на мельницу – там ремонтировали мужики плотину – и домой являлся по большей части трезв. К Прохору относился то сугубо ласково, то вовсе не замечал его. Но черкес-то отлично понимал, что у купца на сердце, и говорил Прохору:
– Прошка, ухо держи... как это?.. востер.
С весной у Прохора усишки стали темные и голос окреп больше. Ходил к Шапошникову, говорил, учился, спорил, приглашал его к себе. Отец косился:
– Только вшей натрясет.
Ибрагим же думал по-иному:
– Дэржись за Шапкина, Прошка. Хоть выпить любит, а башка у него свэтлый, все равно... все равно – пэрсик!
Прохору без физической работы не сидеть, хотелось топором махать: взял плотника и вдвоем начали делать на таежном озере помост для купанья и большую ладью. Это верстах в трех от села Медведева. Дремучая такая, лохматая тайга кругом. И тут же, на берегу озера, из красноствольных сосен промысловая охотничья избушка – зимовьё. Петр Данилыч никогда не заглядывал сюда – охоты не любил, Прохору же эта избушка дороже каменных палат: частенько с ружьем ночевал один, а поутру кружил тайгой, добывая лисиц и белок.
На душе Прохора как будто бы поулеглось. Но весна брала свое, хмелем сладким исподтиха опьяняла кровь. Мечталось о женщине, о Ниночке, и мечталось как-то угарно, дико. А Анфиса? Об Анфисе все молчало в нем. Иногда, впрочем, подымалось острое желание обладать ею и, стиснув зубы, так мучить ее, чтоб она кричала криком, чтоб из ее сердца выплеснулась кровь. Тот поцелуй в церкви, как можно его забыть? Но и обиду матери и весь ад в доме из-за ведьмы он никогда забыть не сможет. Однако нет такого человека, который бы знал себя до дна. Даже вещий ворон не чует, где сложит свои кости.
Отец опять стал пить. Пил подряд четыре дня. Прохор и Марья Кирилловна боялись попадаться на глаза ему. Он лежал, как колода, тучный, горел, хрипел, просил обложить снегом, но снегу не было. Прохор и с жалостью и с болью смотрел на него, думал:
«Может быть, умрет. Хорошо это или худо?»
Вечером Прохор зашел к Ибрагиму – не застал.
На кровати сидел Илья и задумчиво перебирал струны гитары.
– Я завтра буду лавку подсчитывать. С утра, – сказал Прохор.
– Чего же ее подсчитывать, – ответил Илья, улыбаясь. – И товару-то в ней – кот наплакал, пустяки. Впрочем, что же, – обиженно вздохнул он.
– Раз мало товару, то тебя гнать надо. Зачем ты нужен нам?
Илья как-то сжался весь, потом, осклабясь, сказал:
– А я, Прохор Петрович, хочу все-таки мадам Козыревой обручальный предлог сделать. Откровенно, верно говорю вам как другу. Господину приставу имею наличную возможность поклониться, вроде свата, а ваш папашенька – посаженый отец.
В глазах Прохора метнулись искрометные огни.
– Она согласна?
– Да, ежели, как говорится, проконстянтировать, то вполне склоняется. Завтра думаю окончательный переговор произвести с Анфисой Петровной. Венчальные свечи уже в пути, почтой. И цветы.
– А ежели она упрется? – сердито покрутил Прохор свой чуб.
– Господи, тогда свечи и цветы продам. Да нет, я уверен.
– Женись, женись, черт тебя дери! – сквозь зубы пробурчал Прохор и пошел. – Так завтра?
– Так точно, вечерком-с, благословляете?
...Петр Данилыч наконец поднялся. Прохор сказал ему:
– Я полагаю, отец, Илью Сохатых рассчитать надо. Я сам сяду в лавку. Ибрагим будет помогать.
– Не твое дело. Я знаю, кто нужен мне, кто не нужен, – сурово сказал отец.
Вечером уехал на мельницу.
– Дня три-четыре пробуду. Работа. Не дожидайте.
На другой день Прохор с утра проверял лавку. В кумаче оказалась нехватка трех кусков.
– А где ж остаток шелковой материи бордо? А где синий креп?
Илья замялся. Прохор схватил кусок ситцу и ударил Илью плашмя по голове: «Жулик!» Котелок налез приказчику по самый рот.
Илюха окрысился, забрызгал слюнями.
– Это еще неизвестно, кто жулик-то! – крикнул он. – Вы папашу спросите! Он без счету крале-то своей таскал... Обидно-с!
– Какой крале?
– Всяк знает, какой. Анфисе!
– Ах, твоей будущей жене?
– Может быть-с. – Он прыгавшими пальцами выпрямлял свой котелок. – Такой замечательный фасон испортить!.. Не разобравши сути, я чуть язык не прикусил. Эх вы, купец! Вы еще и не видывали настоящих-то коммерсантов...
Он долго бубнил, подергивая носиком, но Прохор не слушал. Кто ей подарил ту кофточку бордо? Отец или Илюха? А впрочем...
– Запирай! – сказал он. – Бакалею перевесим завтра.
Шесть часов вечера, а он еще ничего не ел... Лавка была в крепком амбаре, дома за четыре от них, на другом углу. Выходя, он видел, как простоволосая, в накинутой на плечи шали, легким бегом пробежала в их дом Анфиса.
– О, черт! – выругался он. Ему не хотелось с ней встречаться, пошел к Шапошникову. «И что ей надо? К Илюхе? К жениху? Черт!..»
– Эй, Павлуха! – крикнул он игравшему в рюхи парню. – Сегодня вечером того... клюнет... Понял?