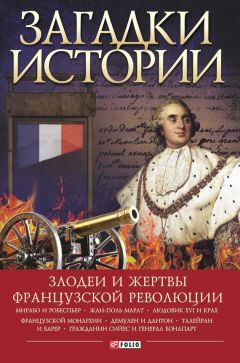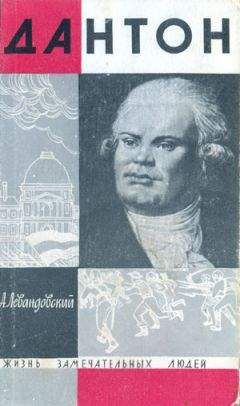Но 1793 год – не 1789-й. Революция 10 августа перечеркнула дело 1789 года, и принцип неприкосновенности депутата был уничтожен в 1793-м – сначала жирондистами, отдавшими под суд Марата, а затем их врагами монтаньярами. Поводом для ареста послужило бегство из страны его старшего сына, бывшего герцога Шартрского и будущего короля Луи-Филиппа. Несколько месяцев он провел в заключении, впрочем, не слишком суровом; но в сентябре того же 1793 года народ Парижа потребовал «поставить Террор на порядок дня». Тогда-то и начались казни – королевы, жирондистов, а заодно и множества других людей, иногда виновных, иногда нет. Дошел черед и до герцога.
За что судили герцога и почему
Обвинение против герцога состояло в том, что он участвовал в заговоре Дюмурье. «Раз уж вы решили во что бы то ни стало обвинить меня, – презрительно заявил он трибуналу, – вам следовало бы, по крайней мере, поискать менее странное обвинение!» Действительно, оно было своеобразным, если принять во внимание, что еще несколько месяцев назад главными обвинителями герцога были друзья Дюмурье – жирондисты.
Но если нет особого смысла спрашивать, за что судили герцога, то надо все же объяснить почему.
Дело в том, что партии орлеанистов все еще опасались. К 1787-му, самое позднее, к 1788 году в Пале-Рояле фактически такая партия и была создана. Она была готова поддержать Луи-Филиппа Жозефа (тогда еще герцога Орлеанского) в его претензиях… на что?
На власть, конечно. Да, но власть – в качестве кого? Короля? Но в 1788 году в стране был король, и – даже если бы его свергли – корона переходила к его малолетнему сыну. Законным путем герцог мог бы стать королем, только переступив через пять трупов, что его отнюдь не привлекало. Может быть, в роли Протектора королевства (такие идеи бродили в головах)? Или следует придумать какой-нибудь другой вариант?
Годом позже Мирабо, который метался из стороны в сторону и не брезговал никакими вариантами, если они могли способствовать его планам, обсуждал с Лафайетом варианты насчет герцога. В конце концов, как сказал Мирабо, им нужен был не властный король: «Нам нужен был манекен – этот м…к подходил не хуже любого другого».
В одном из таких разговоров Лафайет, который был человеком очень честным (слишком честным для политики), между прочим сказал, что если хотят его привлечь к подобного рода переговорам, то прежде всего надо отказаться от любого преступного заговора против королевы, которую герцог, как всем было известно, ненавидел.
Острый на язык Мирабо ответил: «Что ж, если вы того хотите – оставим ее в живых! Униженная королева может быть полезна, но убитая королева хороша лишь для скверной трагедии». Это была, конечно, шутка, но она стала известна королеве, что не пошло на пользу ни Мирабо, ни королевскому дому.
Итак, все это обдумывали и взвешивали, но дело было в том, что личность для всех этих затей уж очень не подходила. «Евнух зла, – презрительно бросил о нем Мирабо, – он хочет, но не может».
Время шло. Результатов не было. Но по-прежнему существовали сторонники герцога, и по-прежнему предполагалось, что у герцога есть перспективы. Сен-Жюст пишет после взятия Бастилии: «Я слышал радостные крики народа, который тешился клочьями человеческой плоти и кричал во все горло: „Да здравствует свобода, да здравствуют король и герцог Орлеанский!“…»
Проходит год. И в 1790-м, по мнению Лафайета, основными силами были: двор, якобинцы и орлеанисты. В числе последних называли таких разных людей, как Шодерло де Лакло, Дюмурье, Дантон, Демулен, Сантерр. Пестрая картина!
Он же говорил королеве, что герцог, мол, единственный человек, на которого могло пасть подозрение «в таком непомерном честолюбии» (то есть в надеждах на корону). Заявление было неудачным: королева подозревала в том же Лафайета. «Сударь, – возразила она, – разве необходимо быть принцем, чтобы претендовать на корону?»
Лафайет ответил королеве, что он, по крайней мере, знает только герцога Орлеанского, «который бы этого желал». Между тем замечание королевы было метким; но реализовалось оно только через 15 лет, а угадать человека, который будет на нее претендовать, тогда не смог бы никакой Нострадамус.
Проходит еще год. И в августе 1791-го Национальное собрание обсуждает параграф конституции, гласящий, что члены королевской фамилии не могут пользоваться правами гражданина.
Друг и поверенный принца Сильери пылко опровергал это предложение:
«Вы обрекаете родственников короля на ненависть к конституции и на заговоры против правительственной формы, которая оставляет им выбор только между ролью придворного куртизана и ролью заговорщика! Напротив, посмотрите, чего можно от них ожидать, если они будут одушевлены любовью к отечеству! Бросьте взор на одного из отпрысков этой расы, которого вам предлагают изгнать: едва вышедши из детства, он имел честь спасти жизнь трех граждан, подвергая опасности свою собственную. Город Вандом присудил ему гражданский венок…» Раздались аплодисменты. Это показывало, что потенциально орлеанская партия, действительно, если и не существовала, то могла бы существовать. Робеспьер тут же резко возразил Сильери, он сказал, что «нельзя безнаказанно объявлять, что во Франции существует какая-нибудь фамилия, стоящая выше других». Речь Робеспьера вызвала ропот, он обиженно заявил: «Я вижу, что нам более не дозволено, не рискуя подвергнуться клевете, провозглашать здесь мнения, которые сначала поддерживались нашими противниками в этом Собрании».
На трибуну взошел герцог Орлеанский, он сказал, что в таком случае ему, мол, остается лишь выбирать между титулом французского гражданина и своими случайными правами на престол. Одни шикали ему, другие аплодировали. Шансы были – не было личности.
…И еще в 1799 году Первый консул Бонапарт, подбирая себе товарищей на роль Второго и Третьего консулов, спрашивал об одном из намеченных кандидатов: «А не орлеанист ли он?»
Короче говоря, Филипп Эгалите не представлял никакой реальной опасности, но партии орлеанистов опасались. Не следует забывать и о том, что, перестав быть герцогом, он остался самым богатым человеком в стране. Само по себе богатство в годы Революции не преследовалось, но если богач – Филипп Орлеанский, то как знать – не подкупит ли он всю страну, чтобы сесть на трон? И когда Филипп в Конвенте примкнул к монтаньярам, жирондисты обвинили их в том, что они хотят посадить герцога на престол. Хотя обвинение было откровенно абсурдным, а жирондисты к осени 1793-го были уже разгромлены – монтаньяры на всякий случай послали герцога на гильотину. (Впрочем, если бы Филипп примкнул к жирондистам – то уже монтаньяры говорили бы, что жирондисты хотят посадить его на престол, и исход, вероятнее всего, был бы тот же.)
Филипп Эгалите был казнен 6 ноября 1793 года. Перед казнью он потребовал две бутылки шампанского. Все дружно признают, что в день своей смерти он держал себя с большим достоинством. Даже роялисты, которые особенно его ненавидели, говорили, что «он жил, как собака, а умер достойно потомка Генриха IV».
Заключенные в Консьержери, почти все ему враждебные, толпились на площадках и у решеток, чтобы посмотреть, как он пройдет. Его конвоировали 6 жандармов с саблями наголо. По осанке и тому, как он шагал, его можно было принять скорее за солдата, идущего в бой, чем за осужденного, идущего на казнь.
Священник, сопровождавший его, упорно просил его покаяться, но герцог, как полагалось в те времена, был вольнодумцем. Он долго отказывался, но в конце концов согласился – то ли от слабости, то ли ему слишком надоел священник. Когда герцог поднялся на помост, помощники палача хотели стянуть с него узкие сапоги. «Нет, – сказал он, – вам удобнее будет снять их потом, давайте скорее покончим с этим».
Сын Филиппа Эгалите, Луи-Филипп, бежал из Франции вместе с Дюмурье, долгие годы провел в эмиграции, после Реставрации вернулся во Францию, хотя власти ему не очень доверяли. В 1830 году, после Июльской революции, которая свергла прямую линию Бурбонов, он стал королем; в 1848 году он был, в свою очередь, свергнут и умер в изгнании. Ныне претендентом на престол является его престарелый прапраправнук Анри (род. в 1933).
Из ваших распрей возродится монархия: Конде и Питт зорко наблюдают за вами.
Ж.-Ж. Дантон
Ветвь Конде отделилась от дома Бурбонов в XVI веке. Ее основатель Людовик Бурбон приходился дядей Генриху Наваррскому, первому королю в династии Бурбонов. Из принцев этого дома наиболее известны Великий Конде, знаменитый полководец XVII века, и его сестра Анна-Женевьева, герцогиня Лонгвиль, вдохновительница Фронды – ее помнят все, читавшие Дюма.
В 1789 году принц Конде был одним из главных врагов революции и эмигрировал еще в первые ее дни – с тем чтобы бороться с революцией из эмиграции. Он был, наряду с младшим братом короля Карлом д'Артуа, главнейшим из вождей вооруженных эмигрантов. Наш персонаж – его внук, молодой герцог Энгиенский. Он эмигрировал вместе с отцом и дедом, сражался в эмигрантских и иностранных армиях против революционной Франции. Борьба оказалась бесплодной, герцог остался в эмиграции, ничем особенным не выделяясь. Но он был принцем крови, потомком жившего в XIV веке Луи Бурбона по мужской линии, и если бы случилось так, что несколько человек, стоявших выше его на династической лестнице, умерли без потомства – в глазах роялистов он был бы законным претендентом на трон.