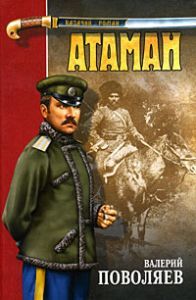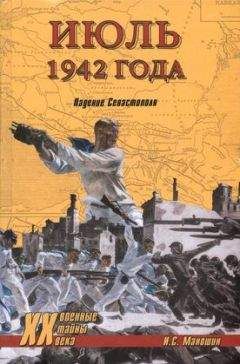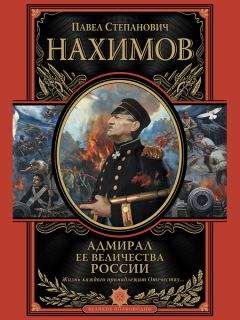— Что, Григорий Михайлович? — Унгерн, удивленный голосом Семенова, его тоном, приподнял брови.
— Бедовый вы человек!
— Это почему же?
— Жизнь очень любите.
— Жизнь любят все. Даже мокрицы.
— Говорят, мокрицы не ощущают боли.
— Не верю я в это. Все живое ощущает боль, даже растения — например, крапива, или чертополох, или побеги березы — все, абсолютно все.
Около стола вновь возник официант в красной рубахе. Он оказался малым проворным, успел сгородить не только закуску, но и наполнить все три графина: один имел густой янтарно-черный цвет, в него была налита черемуховая настойка, второй — яркий красный, это была настойка из мелкой маньчжурской вишни, кислой, как кавказская слива ткемали, пунцовой, будто морозное солнце на закате, третья посудина сияла первозданной прозрачностью, была чиста, как горная влага. Семенов не удержался, потер руки и сказал:
— Ого!
Нет, определенно в нем сегодня было что-то от мальчишки-кадета.
Унгерн ощутил в себе юношеский порыв, тряхнул плечами:
— Холодно что-то!
После первой стопки сделалось теплее. После второй стопки — еще теплее.
Ресторан начал наполняться людьми. Пришел железнодорожный рабочий в форменной тужурке, с петлицами, украшенными молоточками, — нечастый гость в ресторации. Солидный, усатый, с докрасна раскаленными морозом щеками, в двойном ватном одеяльце он нес ребенка; рядом, держа мужа за рукав, робко двигалась жена, тоненькая, похожая на пичугу, в расписных теплых пимах, вдетых в новые лакированные галоши. Рабочий сегодня окрестил ребенка и зашел в ресторан отметить это дело. На щекастом лице папы играла довольная улыбка.
— Це-це-це, — укоризненно процецекал Семенов, — сейчас наш дитятя, хлебнув «смирновской», такой рев устроит — музыкантов не будет слышно.
— Он долго с ребенком здесь не пробудет, — успокоил Унгерн. — Выпьет пару стопок за здравие и исчезнет.
Так оно и получилось: через десять минут жена начала обеспокоенно дергать счастливого муженька за рукав, тот некоторое время посопротивлялся, задавленно мыча и крутя головой, потом махнул рукой, и тоненькая хвощинка, звонко опечатывая пол новенькими твердыми галошами, повела его к выходу.
Появился заезжий купец из русских с двумя приказчиками в одинаковых шелковых рубахах-косоворотках желтого цвета, поверх которых были надеты меховые жилеты. Следом за ними ввалилась большая компания сотрудников городской управы — чиновники праздновали чьи-то именины, галдели, Как гимназисты; увидев есаула, они мигом смолкли — успели узнать его характер. Унгерн это засек и воскликнул весело:
— Вона как!
Впрочем, молчали чиновники недолго — вскоре развеселились вновь.
На крохотной деревянной сценке возник скрипач в бархатных штанах и мягких цыганских сапожках, приложил к плечу скрипку, чуть придавил ее острым, как у женщины, подбородком и вскинул смычок. Дымный воздух всколыхнулся, пополз в сторону, разрезанный тонким, жалящим, как нож, горьким звуком, обнажилось пространство, предметы стали видеться четче, звук завибрировал, задрожал и вдруг стих, будто омертвел, но в следующую секунду возник снова; из-за китайской ширмы, расписанной драконами — добрыми существами, спасающими «бачек» от неурожая и небесных напастей, — появился еще один музыкант. Также в бархатных штанах и в сапожках, очень похожий на скрипача — белозубый, кудрявый, с хмельными темными глазами. В руках у второго музыканта была гитара. Смуглая крепкая кисть взметнулась над струнами, скрипка подпела гитаре, музыканты дружно топнули, гикнули, свистнули и... в общем, понеслось.
— Лихо! — одобрительно наклонил голову Унгерн.
Ресторан преобразился, в нем словно сделалось теплее, люди стали ближе друг к другу, даже чиновники из управы, эти бумажные кренделя, которых так не любил Семенов, и те стали походить на людей.
— Эка! Людями себя почувствовали, — не удержался есаул от едкого смешка, — пожиратели промокашек.
Музыканты играли недолго. Гитарист хлопнул ладонью по струнам, обрывая их звон, скрипач опустил смычок, поклонился публике и произнес сильным чистым голосом:
— Выступает покорительница Харбина и Сингапура, несравненная Маша Алмазова!
Скрипач провел смычком по струнам, рождая долгий тонкий звук, и вновь поклонился публике. Добавил к тому, что сказал:
— Королева публики не только Харбина и Сингапура, но и Хабаровска, Владивостока, Посьета, Гензана, Шанхая, Мукдена. Ее талант отмечали Вяльцева и Вертинский, ее голос слушал сам Шаляпин. Все были в восторге. Ита-ак... высту-пае-ет... — скрипач выпрямился, стал выше, грудь у него сделалась широкой, как чистое поле, и он выдохнул трубно: — Маша Алмазова!
Откуда-то сбоку, из помещения, куда ныряли половые, вышла легкая, с гибким станом и большими угольно-черными глазами девушка — вылитая цыганка, с длинной русской косой, украшенной красной лентой, — перекинула косу на грудь, поклонилась собравшимся и запела низким, очень сочным грудным голосом. Она пела про морозную степь, про умирающего ямщика. Семенов почувствовал, что по коже у него побежала легкая кусачая дрожь — голос этой красивой цыганки проникал в душу, доставал до сердца, распространялся вместе с кровью по жилам, — он поспешно налил в стопку черемуховой наливки, выпил и не ощутил вкуса напитка, помотал головой, словно освобождаясь от наваждения, наполнил стопку снова, выпил и опять не почувствовал вкуса спиртного.
— Это что же такое делается? — пробормотал он оглушенно, запоздало крякнул.
Унгерн заметил состояние есаула, также наполнил свою стопку:
— Колдунья, а не девка!
Печальная песня сменилась веселой, и в помещении словно светлее и просторней сделалось, воздух стал другим. На крохотную площадку перед эстрадной выскочил один из чиновников, выдернул из кармана платок и, взмахивая им, будто девица, понесся по кругу, топая ногами и радостно гикая. Сделал круг около эстрадки, потом другой и хлопнулся перед певицей на колени.
В Семенове вдруг возникло что-то острое, завистливое, крапивно острекающее, он недовольно помял пальцами горло и произнес осуждающе:
— Вертопрах облезлый! Надо будет Бурмакину, городскому голове, сказать, он ему живо на валенки деревянные каблуки прибьет. Ба-альшими гвоздями. На молоденьких зарится... А? Пень старый!
— Не такой уж он и старый, — вступился за чиновника Унгерн. — Да потом, представьте себе, Григорий Михайлович, радостей-то у него, кроме казенного стола с зеленым сукном, никаких. Дома — сварливая жена, крикливые детишки, теща с опухшими глазами, постоянно попрекающая его в том, что он испортил жизнь ее дочери, вот если бы дочка вышла замуж за сватающегося к ней купца второй гильдии Голозадова, то была бы счастлива, и так далее. Затюкан, задерган, замордован этот чиновник донельзя. Единственная отдушина — раз в месяц сходить в ресторацию, покуражиться перед эстрадной. Не осуждайте его, Григорий Михайлович!
— Таких я не осуждаю, Роман Федорович, таким я головы отрубаю, — сурово произнес Семенов, поднял кулак, обвел его пальцем, рисуя сабельный эфес. — Вжик — и нету кочана!
Он скосил глаза на эстрадку и вдруг столкнулся своим взглядом со взглядом поющей Маши Алмазовой, его словно бы пробило током. Семенов почувствовал, что тело его встряхнулось само по себе, в груди возникла и тут же пропала боль. Он с трудом отвел взгляд.
В дверях кто-то громко затопал, это отвлекло Семенова, он поднес ко рту кулак, удивленно крякнул в него:
— Ничего себе пламень души!
— Какой души? — не понял Унгерн.
— Я разумею — цыганской.
— А-а. — На этот раз до Унгерна дошло, он бросил на Машу быстрый взгляд. — Думаю, в этой женщине не только цыганская кровь присутствует, тут намешано столько всего, что сам черт ногу сломит, наверное, вплоть до негритянской крови, не говоря уж о еврейской и румынской.
— Еврейской? — недоверчиво спросил Семенов.
— Мне кажется...
Семенов поспешно наполнил наливкой стопку барона, затем также поспешно налил себе.
— За то, чтобы не казалось, Роман Федорович! — Залпом, стремительно выпил.
Барон, улыбнувшись тонко, выпил следом, вилкой подцепил лаково поблескивающий брикетик паюсной икры, отправил в рот, разжевал с неким изумлением. Не выдержав, приподнял бровь:
— Вот уж не думал, что селедку можно есть с повидлом, сверху намазывать сливочным маслом, а потом — европейской кисловатой горчицей и жевать все это с большим удовольствием...
— О чем это вы?
— О том, что паюсная икра вполне совместима со сладкой наливкой.
— Такая изысканная вкуснотень, как паюсная икра, Роман Федорович, совместима со всем, даже с соляной кислотой. — Семенов, как всегда, был резок, ловил себя на этом, пробовал остановиться, но это ему удавалось плохо — в следующую минуту он уже забывал, что только что чувствовал себя неловко, и вновь резал «правду-матку» в глаза, не выбирая выражений и не стесняясь собеседника.