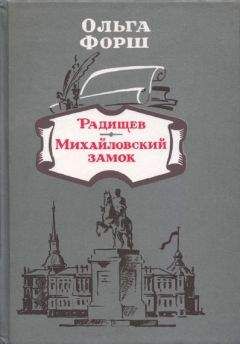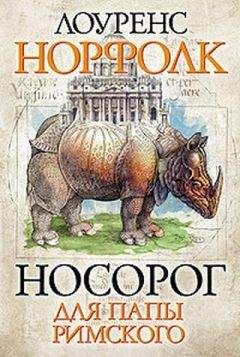Наконец Екатерина встала и улыбнулась в зеркало своей особой улыбкой при сжатых губах, дающей ямочки на щеках. Она велела подать себе зеленый атласный молдаван. Она в домашнем обиходе уже несколько лет не почитала моды, а носила изобретенный ею костюм — платье с широким лифом, с длинными рукавами, скрывавшими ее полноту. Сверху надела соболью накидку. Пожаловалась, что непрестанно мерзнет здесь, в Петергофе; сколько ни топят березой печи, все сыро и холодно; здесь словно дуют особые ветры, продувая все стены; сырость тут круглый год, невзирая на теплый сезон.
Доложили, что Потемкин просит аудиенции. Рванулось сердце от радости, как в самые юные дни, когда приходил Салтыков, но, не выдав себя, тем же ровным благоволительным голосом, каким только что велела передать садовнику о букетах для именинниц в сегодняшний день Марии Магдалины, велела принять в смежной гостиной. Всех отпустила кивком взбитой головы и не спеша вышла.
— Гришенок мой! Бесценни, милейши в свете! — проговорила она свое привычное в письмах к нему обращение с сильным немецким акцентом и перешла тотчас на французский язык.
Потемкин был хмур и не в духе. Он сказал отрывисто, как пролаял:
— Панин с Голицыным уже объявились в большом зале, все прочие — в биллиардной. Сейчас бы, не откладывая, и открыть совет.
Чего же мешкать?
Она еще несколько мгновений хотела побыть просто женщиной, любящей, нашедшей наконец опору и мужа.
— Что бы ни ждало меня, ты со мной? Не оставишь?.. Ну скажи мне, бесценни?
Потемкин отступил на шаг и глядел на Екатерину своим единственным, огненным и ярким глазом, еще более сильным оттого, что другой глаз был у него мертвый, из фарфора, как у куклы. Он резко сказал:
— Не бывать тому, матушка, чтобы ждало тебя что-либо тебе не угодное! И мысли допускать недозволительно.
Она чуть дрогнула бровью, вспыхнула, хотела тоже гневно сказать, что получше его знает, что надо ей делать, но что минуточку вот одну хотела вздохнуть. Но она ничего этого не сказала, подумала: к чему говорить, если и минуты такой ей не суждено.
Потемкин обнял Екатерину и подвел ее к окну, откуда далеко вперед, не загроможденное деревьями, синело и ширилось море.
— Гришенок, — сказала Екатерина обыкновенным деловым тоном. — Не люблю я Панина. Недаром у него лучшая в городе поварня, во всех делах честолюбия выше головы. Посадит он надо мной своего братца. Увидишь, потребуют сделать его властителем с беспредельной властью над войском. Сначала якобы для поимки сего бездельника Пугачева, но кто мне поручится, что оба брата и вся ихняя клика не войдут окончательно во вкус? Во всяком случае, коль скоро войска в их руках, я остаюсь ни малейше не сбережена. Гришенок, а что ежели я сама лично отправлюсь супротив мятежников? Ты помнишь, однажды уже удалось.
— Предложить сие должно, но настаивать не резон, — сказал Потемкин.
И вдруг вспыхнул, побагровел лицом, сжал до боли маленькую ручку императрицы. С поднятием чувства и выспренным жаром, как актер на театре, одним махом Потемкин торжественно произнес:
— Да вспомни тот день, когда тебе было или погибнуть, или проложить себе путь к престолу. О, сколь ты дивно предстала пред нами! Каждый был счастлив умереть за тебя.
— Говори, Гришенок, говори. Сегодня подобный же день, — прошептала она.
— Ужели ты будешь сегодня слабее? — Ярко сверкнул он одним глазом, в то время как другой из своей вдруг расширенной орбиты странно засинел мертвым белком. Потемкин все сильнее сжимал руку Екатерины. Он требовал, он наступал: — Разве ты дрогнула, когда узнала про заговор Мировича, про нахальство претендентки Таракановой? Почто же смущается твое сердце сегодня? Твой путь — львиный путь. В нем женской робости нету места. И ты должна быть сильнее тех лет. Тогда были одни обещания. Ныне выполнено тобою немало. Слава России тебя охраняет, тобою горда. В краткие сроки независимой ты сделала нашу страну. В число первенствующих держав Европы включена тобою Россия, неисчислимы выгоды, которые ты доставила ей. Своим проницательным умом ты перехитрила Фридриха, ты добилась независимости Курляндии, ты разобьешь турок, ты возьмешь Крым. И, как у Александра Великого, не должно стать предела владениям твоим! Ты двинешься на восток… Древнюю Византию я вижу под скипетром твоим.
— И твоим, владыка мой! — воскликнула Екатерина в слезах. — Наконец-то я встретила не тирана, не раба, но супруга. Да, я сильна. Я сильнее, чем когда-либо.
Екатерина сделала несколько шагов, подняла голову, и уже не слабая, любящая женщина — императрица, владеющая собою в совершенстве, сказала Потемкину:
— Объявите всем собравшимся в зале, что я тотчас проследую.
Потемкин поклонился придворным поклоном и вышел. Вдруг Екатерина легко вскрикнула и схватилась за голову. Потемкин немедленно вернулся и кинулся к ней:
— Вам нездоровится, ваше величество?
— В волосах что-то бьется, живое.
Потемкин, смеясь, вынул из легких напудренных волос императрицы желтенькую в окно влетевшую бабочку.
— Мотилок! — воскликнула Екатерина, неспособная выговорить это трудное для немецкой речи русское слово.
— Мо-ты-лек, — поправил Потемкин.
— Мо-ти-лок, — повторила Екатерина и, поднявшись на цыпочки, крепко, по-бабьи, его обняла.
Члены тайного государственного совета сидели в бархатных креслах за круглым столом, покрытым немецкой суконной скатертью.
Тут был и князь Вяземский, генерал-прокурор, с лицом толстым, туго набитым, так что кожа, не поддаваясь пудре, лоснилась, как у вспотевшего. Был и Захар Григорьевич Чернышев, давний фаворит, ныне председатель Военной коллегии.
Чернышев, не желавший, против очевидности, признавать волнение народное, почитавший, что войску только и дела, что словить «вора Емельку», сидел ныне расстроенный. Густые черные брови его с беспомощным удивлением ерошились над тяжелым, несколько бабьим лицом.
Да и было чего испугаться: поднялись орды башкир, заводские крестьяне передавали заводы самозванцу, ему лили пушки.
В Европе помышляли нашей бедою воспользоваться…
— Европа принимает Пугачева за некое орудие турецкой политики, — сказал веско Панин, — и время не терпит… Сегодня надлежит до ее величества нам донести все резоны, угрожающие разрушением империи.
— Какие такие резоны? — отрубил Чернышев. — Зимовейской станицы беглый Емелька-казак — один резон всему.
— То-то что нет… — едва сдерживая горечь и гнев, сказал Панин. — Не кто-нибудь, сам Бибиков писал с глубоким знанием дела Фонвизину:
«Пугачев только чучело в руках недовольных. Причина удачи его много глубже…»
Панин оборвал, а Чернышев не стал подымать разговора. Сидел он, трепетный, между двумя фаворитами — Григорием Орловым и Григорием Потемкиным — и не знал, как ему быть, чтобы не потерять по службе.
Григорий Орлов с презрительной миной смотрел по сторонам, намеренно не отличая людей от предметов. Он упражнялся, перенося взоры с картины на стене на сидящих за столом, нарочито не задерживаясь на лице Потемкина, как на чем-то крайне маловажном.
Потемкин сих орловских уничтожающих маневров не примечал. Сидел глубоко в креслах, огромный, одноглазый, и обихоживал свои ногти. То он их грыз, то, вынув стальную пилку, обтачивал.
Он взволновался, когда вошла Екатерина. Впрочем, едва на нее глянул, вставая и изгибаясь в поклоне, как успокоился: Екатерина была в своем полном параде, во всей непоколебимости власти.
— Я созвала вас сегодня на обсуждение общего блага, империи безопасности и самой целости оной…
Екатерина говорила длинно и торжественно, перечисляя всем известные события последнего времени. Дойдя до вчерашнего извещения об осаде Казани, она не совладала с волнением. Впрочем, по тексту речи чувствительность и слеза в голосе были у места.
— …Сей осаждаемый злодеями город особливо мне дорог. Нет еще и полгода, как покойный Александр Иванович Бибиков своей умной речью столь одушевил казанских дворян, что они тут же создали легион из рекрутов собственного набора. В столь доблестной дворянской семье и мне пожелалось стать членом. Я с гордостью именую себя казанской помещицей.
И вот, судари мои, оная помещица, как в кровном своем деле, ищет заступничества тайного совета за злосчастный свой город. Что скажете? Каковы меры пресечения подлому вору и злодейской черни предложите?
Екатерина обвела сидящих за столом синими победительными глазами, и, привычно сопутствуя царственному взору, бодрящая подданных, благоволительная улыбка чуть обозначилась и застыла на тонких губах.
Панин сильно побледнел и, почтительно склонив голову, стал говорить.
Всем известная главная цель Панина была — настоять на вызове брата Петра Ивановича как единственного, после смерти Бибикова, достойного военачальника.