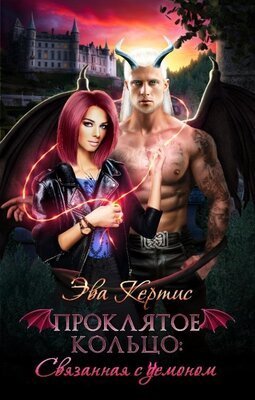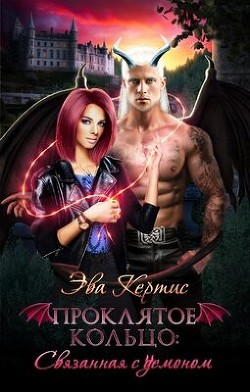[16]— А что? Может быть. И такое может быть.
[17]— Так он точно на ТОТ берег хочет?
[18]— Думаю, да.
— Ага, думает он. Что мне прикажешь с ним делать? Вот, получай неприятности! А ведь был самый спокойный из всех (сыновей). От кого, от кого, а от Антона не ожидал я такой неприятности.
[19]— Да не переживай, я его к старому Лойко направил.
[20]— Что? К Лойко?
— Да.
— Надо ехать. Надо его там найти. Надо вернуть парня.
[21]— Не делай этого, Архип, не делай.
— Отчего же?
[22]— Послушай меня, не делай этого! Если он уже решился на такое, пусть так и будет. Как он решил. Старый жид ему поможет. А ты только хуже сделаешь.
[23]— Хуже? Да я что, враг ему, что ли? Да как он решился отцом пренебречь? Это что такое? А?
[24]— Архип, успокойся! Так лучше будет, послушай меня еще раз. Еще один только раз. Хорошо?
— Хорошо.
Глава двадцать восьмая. Солдатская дружба
Глава двадцать восьмая
Солдатская дружба
Гнат выехал от Архипа Майстренка где-то через час после того, как их разговор, собственно говоря, подошел к логическому завершению. Все было сказано. Архип окончательно ушел в свои мысли, которые по-прежнему оставались не слишком-то веселыми. Заботы, свалившиеся на главу семьи Майстренков, оказались для него слишком тяжелой ношей. А Гнату, что удивительно, стакан в рот не лез. Ну не мог он пить практически в одиночестве, не привык. Пропустив с горем пополам полторы чарки, Гнат засобирался. В другое время они могли бы просидеть под самый вечер, вспоминая былые боевые дела, а вспомнить было что.
Они тогда стояли в лагере, который располагался около городка Ля Куртин. После тяжелых боев под Верденом бригаде необходим был отдых, было много раненных, ожидалось пополнение из России. Но больше всего солдаты ждали одного — отправки домой. Война стояла всем поперек горла. Уже не раз и не два приезжали в лагерь представители Временного правительства с самыми широкими полномочиями от самого Керенского. Назначенный командующим экспедиционным корпусом генерал Занкевич, представитель Керенского, профессор Сватиков, военный комиссар Рапп, которого сопровождал известный поэт Николай Гумилев — вот неполный список высоких лиц, которые пытались вернуть первой бригаде Лохвицкого боевой дух. Но сделать это было уже невозможно. Все хотели только одного — вернуться домой. Шел июль месяц. В ля Куртине стояла жара. Продовольствия было мало. Денежное довольствие солдатам разагитированной бригады не выдавалось. Если бы не сердобольные местные жители, то русскому солдатику пришлось бы ой как туго. В эти дни и Гнат, и Архип сошлись с такими солдатами, как Ткаченко и Глоба. Последние оба были выбраны в солдатский комитет.
Те немногие письма, которые приходили от родных, вести из дому заставляли мужиков еще больше ненавидеть войну. За что они проливали кровь? Особенно тут, во Франции? Все эти бредни про их братский долг по оружию солдат обмануть не мог. Цену такого братства солдаты испытали на своей шкуре, их считали — солдатней, пушечным мясом, когда наши генералы бросали это мясо на немецкие пушки только для того, чтобы выручить обосравшихся по самые уши «союзничков». И наши ребятушки ложились в могилы, а немецкие командиры сбрасывали с французских полей дивизии и перебрасывали их в Галицию или Польшу, где снова лилась кровь рекой. Не забыли они и последние бои, в котором французские артиллеристы, всегда такие точные и искусные в стрельбе, не раз выручавшие огнем наших ребят совершенно внезапно «ошиблись» и обстреляли нас, русских, как только мы отбили тяжелейшую атаку немцев. Солдаты в комитете не без основания говорили, что французики открыли огонь по нашим не так просто, а по просьбе офицеров, которые хотели такими делами пригасить недовольство в бригаде. Да только недовольство все росло и росло. Гнат не слишком верил этим бредням про спецобстрел, на войне и не такое покажется. Да и погром русской бригады был бы на руку немцам, которые смогли бы захватить наши позиции. И менять русских пришлось бы потрепанными французскими частями. Никак у Гната такое в голове не укладывалось, но большевики-агитаторы, которых в бригаде оказалось великое множество твердили про подлость союзников, про голод в тылу русской армии, про тяжелое положение на русско-немецком фронте, про массовые братания русских и немецких пролетариев, про то, что войну начали буржуи и ведется она не для народа, а ради блага эксплуататоров-капиталистов. И в этот последний тезис и Гнат, и его друг Архип, свято верили. Им-то война была не нужна. Говаривали, что царь-батюшка обещался после войны земли немцев и их пособников, жидов, отдать отличившимся солдатам, да если такое и случиться, в смысле, победа, разве солдат что-то получит? Ну, медный рубль на крайний случай. А все ценное — и немецкое золотишко, и земли себе пригребут паны да господа офицеры, те, которые из богатых и знатных. А простому крестьянину светит голый шиш в чистом поле.
Оно конечно, землицы чуть по-более не мешало бы. Какое крестьянину в жизни счастье? Только бы надел свой увеличить, землицы прикупить, да хозяйство малехо расширить. Но без кормильца-то хиреет хозяйство. У Гната хозяйство было небольшое. Мама пока еще поралась, силы были, а вот отца не стало давненько. Как там ей одной? Правда, еще две дочки и внук, все при маме. Даже не знаю… как им там тяжело.
Такие мысли бродили не только в голове Гната или Архипа Майстренка. Такие мысли витали в голове каждого солдата из их бригады, и складывать буйну головушку на чужбине никто уже не хотел.
Вскоре солдаты выдвинули через свой комитет требование о возвращении экспедиционных бригад на родину. Казалось, что офицерня только этого и ждала. На солдат накинулись с побоями и обвинениями, стали грозить трибуналом, но солдатский комитет подобрался из ребят стойких и крепких, а потому трибуналом их запугать было сложновато. Гнат и Архип, скорее всего, на их счастье, в солдатский комитет не попали. Лагерь в Ля Куртине бурлил, настроение было у всех боевое — в смысле, что готовы были драться, но на фронт не идти. Эсэры и большевики вели в лагере свою агитацию. Их лозунг был прост: «По домам!» и «Кончай войну!». В это время произошел и раскол — часть солдат хотела пойти и договориться с офицерами, аргументируя тем, что мы в чужой стране и «ловить тут нечего», все равно французики или всех пересажают, или еще как-то с ними разберутся. Но солдаты уже чувствовали себя силой, так получилось, что в их Первой бригаде большинство стояли за немедленную отправку домой, и решили от этого требования не отходить. Ну что же, в ответ их бригаду объявили мятежной. Несколько раз приезжали самые разные делегаты для переговоров с взбунтовавшейся бригадой. То требовали подчиниться, потом требования стали жестче: сдать оружие, готовиться к интернированию в лагерь. Но, взбудораженные поведением офицеров, солдатики сдавать винтовочки не спешили. А делегатов одного за другим отправляли туда, куда им идти и следовало. Требование солдат было одно: «Отправить бригаду домой». Кто знает, как пошли бы события дальше, но в бригаду стали возвращаться ребятушки из госпиталей. Выяснилось, что там их офицеры мордовали со всей решительностью, стараясь выбить большевистскую агитацию и заставить вернуться на фронт. Многих уговаривали перейти в Иностранный Легион, мол, там они получат возможность стать гражданами Франции. Волна угрюмого раздражения превратилась в волну солдатского гнева. К нижним чинам, храбро проливавшими кровь в этой чертовой Франции, относились как к быдлу. И этого было не изменить. Агитаторы призывали их возвращаться домой, возвращаться с оружием, чтобы защитить дело революции, свергнувшей царя. Вопрос о доверии Временному правительству уже не стоял на повестке дня — никакого доверия не было.
И тут пошли ультиматумы. Один раз бригаду пытались разоружить, отправив ее из лагеря под видом передислокации на новое место, только бдительные солдаты сумели разгадать замысел офицерья и вернулись в лагерь строем, с оружием в руках. А потом, после очередного ультиматума, все сразу изменилось. Лагерь окружили французские жандармы и части Второй бригады, которые остались верны Временному правительству. В тот же день в лагерь перестало поступать даже то скудное продовольствие, которое выделяли союзники. Готовилась расправа.