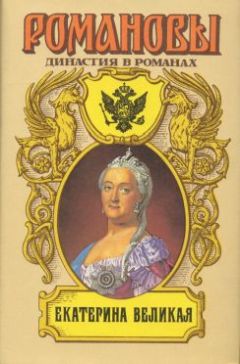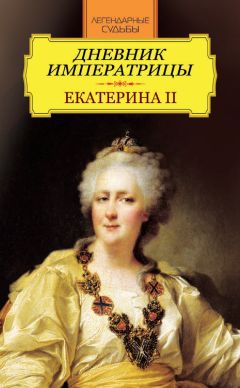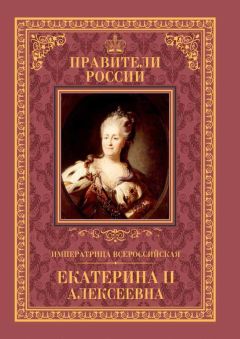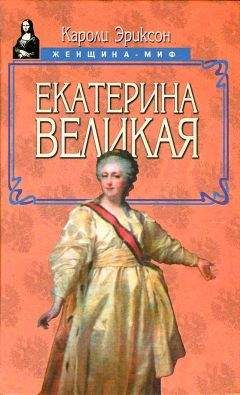Она позвонила:
– Кофе!
Фике любила чёрный кофе и такой, что из одного фунта мокко, положенного в кофейник, выходило всего две чашки. Кофе в саксонском фарфоре пах крепко, пряно, возбуждал нервы. И она снова обмакнула белое перо в золотую чернильницу в виде раковины.
Надо было писать графу Станиславу Понятовскому, чтобы он не ездил сюда, в Петербург. «Гриша не велит! – улыбнулась она собственной мысли. – Два медведя не уживутся вместе…» «Я сделаю вас польским королём! – писала она. – Работайте со шляхтой, подготовляйте сейм. А деньги и солдаты теперь будут в нужном количестве…»
Дописала. Запечатала. Положила перо. И снова в сознании всплыла всё та же мысль, которую всё время отгоняла от себя… С которой засыпала… С которой просыпалась… О которой ни у кого ничего нельзя было спросить: «А что же в Ропше?»
Несколько дней длилась эта молчаливая пытка мыслями и ожиданием… И вот наконец быстро вошедший, утомлённый, забрызганный грязью офицер, шагнув в кабинет, подал ей письмо. Большой лист серой бумаги, исписанный неграмотной пьяной мужской рукой.
«Матушка, милостивая государыня, – читала Фике с ужасом и радостью. – Как мне изъяснить, описать, что случилося? Не поверишь своему рабу, как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась! Погибли мы, когда ты не помилуешь! Матушка, нет его на свете. Но никто сего не думал, да и как нам было подумать – поднять руку на своего государя! Государыня, совершилась беда: он заспорил за столом с князем Барятинским – не успели мы их разнять – а его уж и не стало. Не помним, что и делали, но мы все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата! Повинную тебе принёс, и допрашивать нечего. Прости или прикажи скорей окончить… Свет не мил! Прославили тебя и погубили себя навек. О р л о в А л е к с е й».
Екатерина уронила письмо на стол, подошла к окну… День сегодня был серый, ветреный. Низко тянулись облака, на фоне жирных туч острой иглой торчал шпиль колокольни крепости, да под ветром ангел стоял, держась рукой за крест.
В кабинете государыни, над золотыми разводами двери в десюдепорте[73] был изображён Храм Славы: круглая, толстоватая мраморная беседка с несколькими колоннами белела среди зелёных деревьев. На неё из золотого солнца сыпались прямые лучи. Перед беседкой курился жертвенник, на жертвенник женщина в белом возлагала цветы.
Чтобы овладеть собой, императрица прошлась несколько раз по кабинету, выпила стакан воды, засучила рукава, снова опустила их… Потом, остановившись перед дверью и подняв глаза к небу, перекрестилась…
– Слава Богу!
И ей метнулся в глаза этот Храм Славы, кисти славного Валериани.[74]
«Скорей, скорей короноваться! – подумала она. – Надо указать – в сентябре… Уже назначен главный распорядитель – князь Никита Трубецкой…»
Теперь ему было ещё дополнительно указано – заготовить сто двадцать бочек дубовых с железными обручами, чтобы в каждую входило по пять тысяч рублей разменной монетой – народу разбрасывать… Да указано в этот день генералу фельдцейхмейстеру[75] Вильбоа – готовить фейерверк отменный… да ещё угощение народу…
Это и был Храм Славы.
В десять часов утра 22 сентября 1762 года над Кремлём раздались звуки литавр, труб, загремели пушки. Из Кремлёвского дворца двинулось коронационное шествие в Успенский собор… Толпы народа заполнили Кремль, Красную площадь. Гвардия стояла от Успенского собора вдоль Ивановской площади.
В шествии шли митрополит Новгородский Дмитрий,[76] с ним 20 архиереев, 35 архимандритов, драгоценные митры их горели как жар. Хоругви. Кресты. Фонари. Иконы. Шесть камергеров несли шлейф Фике. Перед Фике несли регалии её власти – корону, скипетр, державу. Вступив в древний собор, Фике села на императорский трон…
Хоры гремели: «Осанна!» – Пятиярусный иконостас сверкал золотом свеч. По четырём круглым колоннам всё так же, как и при Иване Третьем, подымались, уходили вверх лики святых и ангелов. И выходило так, что вся эта древняя сила охраняла теперь маленькую ловкую немочку Фикхен из Штеттина.
Перед императрицей стали на колени граф Разумовский да князь Голицын[77] – поднесли на золотой подушке корону.
Императрица взяла её и сама возложила себе на голову. Началась обедня – она стояла её всю со скипетром и державой в руках. Сама прошла потом в царские врата, сама помазала себя миром…
Митрополит Дмитрий заливался соловьём, произнося приличную сему торжеству проповедь.
– Господь возложил на главу твою венец! – со слезами в голосе говорил он. – Знал Он, как избавить тебя, благочестивую, от напасти! Знал Он сердце твоё, сам читал его перед собою. Знал, что во всевыносимом терпении твоём ты ниоткуда не ждала помощи, только уповала на Него одного – на Бога. Знаем и все мы единодушно и скажем, что ни голова твоя не хотела царского венца, ни рука твоя не искала славы, не искала приобретения сокровищ временных. Тобой в твоих действиях руководила только материнская любовь о твоём отечестве, твоя вера в Бога да ревность к благочестию. Тобою руководила жалость к страданиям народа, к порабощению сынов русских. Только это и заставило тебя принять сие великое Богу служение. И чудо сие, – восклицал красноречивый проповедник, – опишут в книгах историки. Учёные будут читать с охотою, а неграмотные рады будут послушать эту удивительную повесть…
После коронования императрица Екатерина Алексеевна обошла все соборы и в аудиенц-зале под балдахином раздавала награды отличившимся в перевороте персонам.
Главнокомандующим, что на прусского короля не слишком напирали, – Салтыкову да Бутурлину – пожалованы были бриллиантовые шпаги – «за доблесть».
Всем пяти братьям Орловым – Алексею, Григорию, Фёдору, Ивану[78] да Владимиру[79] – графское достоинство. Григорий назначен генерал-адъютантом. Кроме того, Алексею и Григорию по 50 тысяч рублей деньгами да по 1000 душ крестьян. Камер-лакею Шкурину 1000 душ крестьян и дворянское благородное звание. Всего было в этот день обращено в крепостных рабов до 15 тысяч человек, пожалованных разным лицам.
Княгине Дашковой – 25 тысяч рублей и орден святой Екатерины. Адмиралу Талызину – высший орден – Андрея Первозванного.
Дяде Жоржу на выезд из России пожаловано было 100 тысяч рублей.
Императрица затем изволила обедать одна, под балдахином, а вся знать – духовенство, вельможи, генералитет – стояла вокруг трона. Потом, по её распоряжению, гости уселись за столы… В народ бросали деньги… Три часа били фонтаны из красного, белого вина и из водки, на площадях Ивановской и Красной стояли жареные быки, бараны, дичь… Пирамиды из хлеба.
А когда императрица Фике показалась на Красном крыльце, загремели пушки, зазвонили колокола, но, отмечают современники, «народ молчал».
Москвичи вообще расходились, когда она появлялась на улице, и в то же время народ всегда валил толпой за её сыном-мальчиком, наследником Павлом. Мало того, что народ молчал, народ и говорил втихомолку, а потом всё громче да громче, всё вольнее и вольнее.
Императрица после коронации долго жила в Москве – очевидно не желая возвращаться в Петербург, слишком близкий по воспоминаниям…
Она сходила на богомолье к Троице-Сергию, пешком ходила в Ростов на открытие мощей святого Димитрия Ростовского.
Но эта мало помогало.
Слухи в народе росли и разрослись настолько, что 4 июня 1763 года в разных концах Москвы на улицах забили барабаны, заиграли трубы и сбежавшийся народ слушал от конных герольдов следующий манифест:
– «Желание наше и воля есть, – возвещала Фике народу московскому, – чтобы все и каждый из наших верноподданных занимался единственно своим делом, своей службой, чтобы побольше воздерживался от дерзких и непристойных рассуждений. Но против нашего чаяния, к нашему прискорбию мы слышим, что появляются такие развращённых нравов и мыслей люди, которые думают не об общем добре, не об общем покое, но, заражённые рассуждать о делах, совершенно к ним не относящихся, о том, о чём они ничего не знают, до того безрассудно распускаются, что в своих речах касаются дерзко не только гражданских законов и правительственных действий, но даже и божественных узаконений…
Такие зловредные истолкователи по всей правде заслуживают достойной казни как вредящие нашему и всеобщему покою, но мы всё же всех таковых заражённых неспокойными мыслями матерински увещеваем – оставить всякие вредные рассуждения и сообразно своему званию проводить время не в праздности, или в невежестве, или в буйстве, но заниматься своим полезным делом на пользу свою и общую…
А если сие наше материнское увещевание не подействует на развращённые сердца, не обратит их на путь истинного блаженства, то пусть знают такие невежды, что тогда поступим по всей строгости законов, и такой преступник неминуемо восчувствует всю тяжесть нашего гнева как нарушитель тишины и презритель нашей воли.