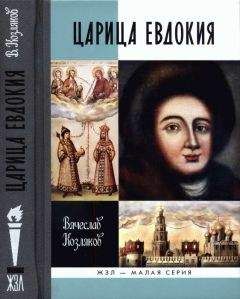Анна Леопольдовна, правда, стала укорять царевну в переговорах со шведским лоббистом Шетарди, но Лиза отвечала гордо. Тем не менее, она почувствовала угрозу и опасалась, что повяжут Лестока, а тот всех сдаст. Приходилось действовать.
Помогла та же война. 24 ноября 1741 года в час дня гвардия получила приказ готовиться выступить в Финляндию...
Вы понимаете, что питерским гвардейцам никак не хотелось отрываться от карточных и винных столиков. В Финляндии в конце ноября запросто случается температура в минус сорок градусов Цельсия. Вести войну в такую погоду, как нам научно рассчитал Виктор Суворов на стратегическом компьютере Ее британского Величества Генерального штаба, — абсолютно, даже теоретически невозможно. Это — вопреки законам природы — еще кое-как могли бы сделать парни генералиссимуса Сталина, а парни генералиссимуса Антошки к комсомольскому подвигу были не готовы — ровно на двести лет.
Елизавета бунтовать боялась. Команда ее уговаривала, ей (команде) хотелось на двор, пардон, — ко двору. Пришлось Лестоку упрекнуть Лизу последней кровью Петра, скучающей в ее венах. Это подействовало, но не очень. Тогда Лесток, — о, Европа! Оh, charme de Paris! — показывает карточный фокус. Он берет две карты, — например, пиковую шестерку и червовую королеву, на шестерке рисует, как умеет, Елизавету в монашеском платье. На королевской карте коварный лекарь делает некие художественные поправки, небось еще приписывает витиеватую латынь, типа Liza Regia или Queen Elisabeth the I. Потом резко мечет карты и предлагает царевне выбрать одну из двух подрисованных, какая больше нравится.
Ну, что тут выбрать? Кем быть в колоде? Не знаю, как вы, а я бы лучше согласился быть королевой, чем монашкой. Вот и Лиза тянет дрожащую руку к красной карте. Vivat Regia! Это гвардия так завопила, но не тотчас, а через час — в час пополуночи 25 ноября. Ну, и не по латыни они, конечно, орали, а тихо клялись «матушке» «перебить всех». Тогда Елизавета велела разломать барабаны, чтобы какой-нибудь верный присяге идиот не ударил тревогу, взяла крест, упала на колени и спросила всех, рухнувших рядом, клянутся ли они умереть за нее, как она клянется умереть за них? Все рявкнули, что клянутся. Лиза произнесла подозрительную фразу: «Так пойдемте же, и будем только думать о том, чтоб сделать наше отечество счастливым во что бы то ни стало», и они пошли.
Вернее, поехали. На Невском лежал снег, ехали на тройке с бубенцами, а вокруг мелькали огоньки на штыках Гренадерской роты Преображенского полка. С дороги то и дело посылали по нескольку человек гвардейцев арестовать то Миниха, то Головкина, то Менгдена, то Левенвольда и Остермана. На подъезде к Зимнему гвардия попросила Елизавету спешиться, чтобы не греметь упряжью, да чтобы лошади не заржали, да чтобы не заезжать с парадного крыльца. Но Елизавета еле переставляла ноги — от усталости или на нервной почве. Пришлось гвардии взять ее на руки и буквально внести в несчастный Зимний дворец.
Итак, первый штурм Зимнего произошел тихо, без дурацких корабельных залпов, без детско-юнкерского сопротивления, без экстаза смертниц женского батальона. Вернее, экстаз был, но уже закончился, и девица Менгден — первая фрейлина двора — мирно спала на плече регентши Анны. Сюда, в приют любви немецкой вошла заснеженная Елизавета: «Сестрица, пора вставать!». Анна взмолилась не разлучать ее с подругой, помиловать детей, ну, то есть не вешать по обыкновению маленького Ваню, не душить новорожденную Катю. Елизавета согласилась и даже подержала мокренького императора на руках, погладила его по головке: «Вот уж кто невинен!».
К утру был готов текст манифеста, титулы, присяга, прочие необходимые документы. Дворец стал наполняться «гостями». Все торопились засвидетельствовать дочери Петра Великого свои такие же великие чувства. Перебежчики из павшего Брауншвейгского дома суетились больше всех. Пришлось преображенским гренадерам оттеснить толпу и выпросить себе милость, — в знак признания заслуг желали гвардейцы, чтобы Елизавета стала капитаном Гренадерской роты, и первую присягу приняла у них». Что и было исполнено. Ветвь Петрова вновь зазеленела преображенскими мундирами и расцвела на всероссийском престоле румяной дочерью Великого Императора.
Елизавета ПетровнаЕлизавета озаботилась самыми первыми царскими хлопотами. Это, когда тебе все ново, непривычно, приятно. Хоть и знаком дворцовый обиход, и не раз к себе примерялся, а всё-таки можно было и мимо проскочить. И от этого сладко стонет под лопаткой.
Среди первоочередных забот числились:
Отправка брауншвейгских гостей восвояси — в немецкое их отечество — с честью и содержанием за наш счет.
Приглашение герцога Голштинского Петра — внука Петра Великого — в качестве наследника престола, хотя пока и не православного (Елизавета то ли отчаялась родить, то ли торопилась сблокировать претензии Брауншвейга и прочих).
Перестановки в правительстве. Лидером становился Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, срочно размораживаемый после ссылки.
Раздача пряников.
Следствие, суды, ссылки и прочее — по традиции.
Сразу и приступили. Брауншвейгскую команду решено было пока придержать в России, чтобы она в Европе не помешала возвращению Петра Голштинского. Эта задержка превратилась потом в жуткую, многолетнюю драму в стиле Дюма.
Бестужеву и всем хорошим людям, пострадавшим от немцев, вернули ордена, деревни, восстановили трудовой стаж с 1740 года.
Плохих людей, напротив, стали судить. Им шили русофобию, карьерную и наградную дискриминацию русских, излишнее усердие в прошлой службе. Такие ужасные преступления, сами понимаете, достойны примерного наказания. Новые заседатели очень дружно приговорили Остермана к колесованию, Миниха — к четвертованию, Головкина, Менгдена, Левенвольда и Тимирязева — как невольных исполнителей — к простому отсечению головы.
17 января 1742 года во всех питерских переулках ударили барабаны и было объявлено, что назавтра состоится величественное представление — казнь государственных преступников.
18-го утром на Васильевском острове перед зданием Коллегий на лужайке возвышался эшафот. Астраханский полк окружал его плотным квадратом, чтобы толпа разгоряченных болельщиков не прорвалась на арену. В 10-00 под бой курантов ходячих врагов народа вывели на всеобщее обозрение, больного Остермана везли на позорной, в одну лошадь упряжке. Остерману первому зачитали смерть, положили его на плаху. Один солдат оттягивал волосы, другой медленно, под дробь вытаскивал из мешка топор. Когда топор был готов, секретарь снова полез в свой портфель и объявил, что вот-де, Андрей Иваныч, тут еще какая-то бумажка завалялась, ну-ка посмотрим, посмотрим. Ух, ты! «Матушка императрица и Бог даруют тебе жизнь!».
Обомлевшего Остермана снесли в кресло, откуда он парализованно наблюдал дальнейшее действие. Всем прочим зачитали их жуткие вины, не выводя на эшафот. Враги, почуявшие закон жанра, уже как-то нагловато слушали обвинения, приговоры и помилования.
Но мы-то, мы! — народ православный, наивный, жаждущий зрелищ непосредственно после водки — в ущерб хлебу, как же мы? Хорош театр, в котором Отелло вдруг не душит Дездемону! Этого мы так оставить не могли. Кто-то закричал, что нас обманули, приглашали на казнь, а опять вывернули в пользу гадов! Толпа зашевелилась, стала толкаться, лезть к осужденным. Пришлось астраханцам взять ружья наперевес, а кое-кому и зубы высадить прикладами.
Елизавета вообще пренебрегла народными чаяниями. В ее царствование были почти прекращены пытки подследственных, введен мораторий на смертную казнь, то есть, к ней приговаривали, но исполнять приговор не дерзали. Прямо, как сейчас. Еще Елизавета притормозила высылку всех немцев, восстановила на службе заграничных инженеров, которых народ желал извести или изгнать вон.
Взамен кровавых зрелищ нужно было предложить что-нибудь доброе, и Елизавета поспешила в Москву на коронацию. 28 февраля 1742 года в пять часов утра московских обывателей разбудила пальба девяти орудий и благовест большого Ивановского колокола. Елизавета въезжала в Кремль по Тверской-Ямской — с колокольчиком.
— В порядке, мало изменившемся до наших времен, — объявил Историк.
— И до наших тоже, — заверил я.
Собственно коронация была назначена на 25 апреля. Опять потратили деньги на позолоту фанерных арок, раздали ордена, звания, чины. После коронации двор до конца года оставался в Москве. Здесь же 7 ноября было объявлено о назначении наследником престола племянника императрицы, Петра Федоровича.
В середине 1743 года русская армия захватила Финляндию у обманутых шведов, которые так надеялись на Елизавету, так хотели возвести ее на трон, так убивались, что она взошла на него без посторонней помощи.
Молодая императрица занялась экономикой и согласилась на приватизацию казенных заводов. Но по прошествию времени был сделан печальный вывод, что частные владельцы качеством продукции пренебрегают, кирпич у них выходит трухлявый, а черепица — ломкая. Раз за разом пытались отдать важные промыслы в «хозяйские руки», — как у людей, но ничего хорошего не получалось, — частные деньги разворовывались пуще казенных, — Россия, господа!