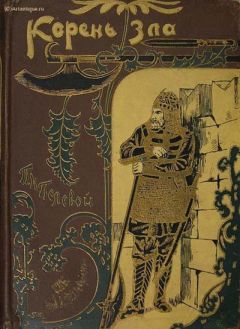— Все на площадь! Православные, на площадь!.. Красносельцы послов великого государя ведут!.. Прирожденный государь грамотку москвичам прислал… На Лобном месте читать будут!
В рядах поднимается чистый содом: кто запирает лавку, кто бросает товары, кто кричит без всякого толку, перенося товар с места на место. Все потеряли голову, и все бросаются на площадь, перегоняя и давя друг друга… А тем временем по Ильинке чинно и медленно двигается громадная толпа, и в середине ее, окруженные красносельскими слобожанами, шествуют на конях присланные с грамотами из-под Тулы дворяне Наум Плещеев да Таврило Пушкин: один — высокий, сухощавый и суровый воин, в помятом шеломе и смуром кафтане, накинутом поверх кольчужной рубахи, другой — румяный и веселый толстяк, в щегольском немецком шишаке и рваном куяке, усаженном медными бляхами. Крутом них, теснясь и волнуясь, валит пестрая толпа народа и безоружного, и вооруженного, и нарядного, и оборванного, рядом с простой сермягой виден нарядный терлик, рядом с пестрым бабьим сарафаном — черная монашеская ряса, рядом с лохмотьями — суконный цветной кафтан. Толпа двигалась непрерывно темной рекой среди громадного облака поднятой пыли… Толпе не видно ни конца, ни края, она словно сказочный зверь — чем более движется, тем более растет, растет и наконец шумным потоком изливается на площадь, уже залитую тревожными толпами московских горожан.
— Дорогу! Дорогу! Очищай дорогу послам прирожденного царя Дмитрия Ивановича!
— Веди послов на Лобное место! Веди! Дорогу!.. Сторонись, православные!
И сторонится народ, открывая широкую дорогу Плещееву и Пушкину, которые торжественно шествуют на конях к Лобному месту, посвечивая на солнце своими шеломами.
— Вона! Вона! Гляди, послы государевы на Лобное место взошли!.. Грамоту читать будут!.. Ах, Господи, спаси нас, грешных!.. Шапки долой!.. Грамота царская!
И шапки летят долой, толпа смолкает как один человек, и только вдали по окраинам площади слышны еще неясный гул и говор.
Плещеев и Пушкин снимают шеломы, крестятся на соборы кремлевские и на церковь Троицы, что на рву. Затем Плещеев произносит громко:
— Всем вам, московским людям, прирожденный государь наш, царь и великий князь Дмитрий Иванович всея Руси, поклон шлет и грамоту.
— Буди здрав царь Дмитрий Иванович! — заревели несколько сот голосов около самого Лобного места.
— Какой там царь!.. Окаянец он! Долой послов его! — раздалось с другой стороны.
— Молчать! Сунься только!
— Тс-с! Тише… Тише! Читайте грамоту. Читайте! Читайте! — кричат с разных сторон площади тысячи голосов.
Пушкин вынул грамоту из-за пазухи и сильным, громким голосом, резким и звонким, как воинская труба, прокричал на всю площадь:
— «Московские всяких чинов люди!.. Помня православную, христианскую, истинную веру и крестное целование, на чем есте крест целовали отцу нашему, блаженной памяти государю и великому князю Ивану Васильевичу всея Руси, и нам, чадам его, на том и мне, прирожденному государю, крест целуйте!..»
Но гул и громкий говор и ропот толпы около Фроловских ворот прерывают начатое чтение грамоты. На мосту у ворот показались бояре, духовенство, думные дьяки, окруженные стрельцами. Пищали, бердыши и копья ярко засверкали на солнце над пестрой толпой бояр, начальных людей и войска, высыпавшего из Кремля. Но толпа, расступившаяся перед духовенством и боярами, сомкнулась перед стрельцами, которые сбились в кучу на мосту.
— Чего вы тут собрались! — громко закричал князь Телятевский. — Что вам нужно?.. Ведите воровских послов в Кремль, мы там прочтем их грамоту.
— Да вон поди-ка сам возьми их! — гудела толпа, напирая на бояр.
— Небось руки коротки! — смеялись в толпе.
— И близок локоть, да не укусишь!
— Православные! — попробовал крикнуть Шуйский. — Зачем собрались? Коли есть нужда иль челобитье какое, Ступайте прямо к царю Федору, чем здесь шуметь!
Но крики толпы покрыли его голос:
— Читать!.. Читать грамоту законного царя Дмитрия Ивановича!
И над стихнувшим всенародным множеством вновь раздался громкий и резкий голос Пушкина:
— «Божьим произволением и Его крепкой десницей покровенный, спасен я был от изменника Бориски Годунова, хотящего нас злой смерти предати. Бог милосердый, невидимой силой нас, законного государя вашего, укрыл и через много лет в судьбах своих сохранил. И ныне мы, царь и великий князь Дмитрий Иванович всея Руси, с Божиею помощью идем сесть на престол прародителей своих, на Московское и на все иные государства Российского царства…»
Шумные, радостные крики громовым перекатом пронеслись по площади и, долго не умолкая, заглушали чтение грамоты.
— «Не гневаемся на вас, — продолжал читать Пушкин, — что вы против нас, великого государя, выступили, служа изменникам нашим, Федьке Борисову сыну Годунову и его матери, и их родственникам и советникам. Ведаем, что ваши умы и слухи, и сердца омрачены неведением…»
— Так, так!.. Правда, правда!.. — закричали в толпе. — Не ведали мы, что жив законный государь!
— Буди здрав, царь Дмитрий Иванович! Помилуй нас, темных людей! — слышались возгласы в толпе.
— «И ныне во всех городах, — продолжал на всю площадь выкрикивать Пушкин, — бояре и дворяне и всяких чинов люди нам, прирожденному государю, крест целовали, и мы их пожаловали, их вины им отдали… И когда вы, люди московские, нам крест поцелуете по правде, мы и вас пожалуем всяким своим царским жалованьем, чего у вас и на разуме нет!»
Тут поднялись такие шум и крик, такой неистовый рев, что несколько минут посланцы «прирожденного государя» посматривали кругом в совершенном недоумении. Одни кричали «во здравие царю Дмитрию Ивановичу», другие ругали и поносили Годуновых, третьи плакали от радости и кричали без всякого толка.
— Просияло над нами солнышко красное! Дождались царя законного! — вопил, размахивая руками, Нил Прокофьич, протеснившийся к самому Лобному месту.
— Где нам против него идти, Бог не попустит! — кричали крутом.
— Недаром и Басманов, и воеводы, и все войско на его сторону перекачнулись!.. Он прямой, законный царь!
— А почем ты знаешь, что законный? — галдели какие-то посадские, толпившиеся около Захара Евлампыча и старого суконщика.
— Братцы! — вдруг закричал старый бубличник. — Да ведь тут на площади сам князь Василий Шуйский. Пусть он нам скажет, законный ли царь Дмитрий Иванович.
Слова упали в толпу, как искра в порох.
— Шуйского! Шуйского на Лобное! — раздалось со всех сторон из тысячи глоток.
— Шуйского сюда! — закричали и Пушкин с Плещеевым.
— Шуйского! Шуйского! — радостно откликнулись голоса во всех концах площади.
И Шуйский, подхваченный сотней рук, перепутанный, бледный, трепетный, явился на Лобном месте рядом с Плещеевым и Пушкиным.
И опять смолкло все народное множество, и с напряженным вниманием тысячи глаз устремились на князя Василия, тысячи ушей приклонились жадно к тем словам, которые готовы были слететь с его широких, трепетных уст.
Стараясь оправиться, собраться с мыслями и совладать с собой, князь Василий, сняв шапку, долго крестился и кланялся народу на все стороны.
— Православные! — произнес он наконец, с усилием выговаривая каждое слово. — Виноват я, грешный, неверный раб… Перед Богом и перед законным государем. Из страха перед земным владыкой я покривил душою…
— Слушайте, слушайте! — пронеслось, как шелест, в толпе.
— Я покривил душой… Еще как был я на углицком розыске, я и тогда уж знал, что в Угличе убит злодеями не царевич Дмитрий, а поповский сын!
— У-у-у! — заревела толпа. — Жив буди царь Дмитрий Иванович! В Кремль!.. В Кремль!.. Долой Борисово отродье!
— Прочь Годуновых!.. Долой вражьих детей!.. И годуновцев всех долой! В одну яму!.. В Кремль… Во дворец!
И ничем не удерживаемая, многотысячная толпа бурным потоком хлынула во Фроловские и Ильинские ворота, крича, вопя и ругаясь, и громкими, неумолкающими кликами в честь прирожденного, законного государя Дмитрия огласила ту самую площадь, над которой еще так недавно раздавалась торжественная и грозная анафема окаянному расстриге.
Прошло около полутора недель с тех пор, как грозная буря народной мести разразилась над несчастной семьей Бориса, над его родней и близкими к нему людьми, над всеми, кто был с ним связан или предан ему при жизни. Буря пронеслась, но следы ее были еще очень заметны всюду, и бояре спешили их скрыть, затереть, загладить в ожидании того торжественного дня, когда новый, законный царь должен был въехать в Москву и вступить на прародительский престол.
Все московские плотники, столяры и маляры работали над обновлением царских палат, в которых чернь успела многое переломать, разбить, ограбить, ободрать. Всюду были слышны стук топоров, поколачиванье молотов, покрикивание десятников и громкие песни рабочих. Бояре не ограничивались поправкой и подновлением теремного дворца, они заботились также и о том, чтобы во всем Кремле, тесно застроенном, привести все здания и улицы в порядок, очистить их от сора и хлама и уничтожить всякие следы того разгрома, который чернь произвела в домах Борисовой родни, его приверженцев и служни. Только один обширный и некогда богатый дом, бывшие хоромы конюшего боярина Бориса Годунова, стоял мрачной нетронутой развалиной. Выбитые окна и двери его, поломанные крыльца, порушенные перильные переходы, поваленный забор и пошатнувшиеся набок ворота — все свидетельствовало о том, что на этот дом с особенной силой обрушилась ярость народная. Бояре, по-видимому, не без намерения оставили этот дом в небрежении. Им, видно, хотелось, чтобы новый царь воочию мог убедиться в том усердии, с которым верные его подданные разорили «старое годуновское гнездо».