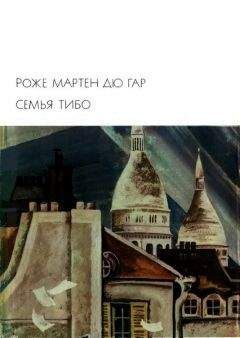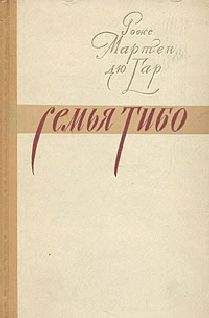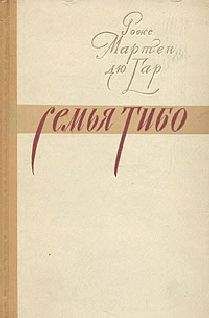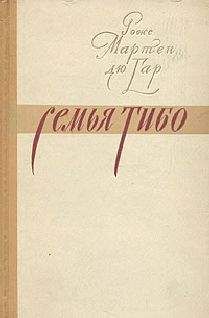— Под подушкой-то ничего не прячешь? Свечку? Или книжку?
Он сунул руку под одеяло. Но внезапным броском, которого Артюр не мог ни предвидеть, ни предупредить, мальчик вырвался и отпрянул, прижавшись спиною к стене. Его глаза горели ненавистью.
— Ого! — удивился тот, — какие мы нынче чувствительные! — И добавил: — Я бы с тобой не так потолковал…
Говорил он тихо и все время косился на дверь. Потом, не обращая больше внимания на Жака, зажег керосиновую лампу, которую оставляли на всю ночь, запер отмычкой коробку выключателя и, насвистывая, вышел.
Жак услышал, как в замке дважды повернулся ключ и служитель ушел, шаркая веревочными туфлями по кафельному полу. Тогда он перебрался на середину кровати и, вытянув ноги, лег на спину. Зубы у него стучали. Доверие покинуло его. Вспомнив события дня и свои признания, он содрогнулся от бешенства, которое тут же сменилось беспросветным унынием: ему привиделся Париж, Антуан, отчий дом, пререкания, занятия, постоянный надзор… Ох, какую же он совершил непоправимую ошибку, — отдался в руки врагов! «Что им всем от меня надо, что им надо от меня!» По щекам текли слезы. Как за соломинку, цеплялся он за надежду, что таинственный план Антуана окажется невыполнимым, что г-н Тибо воспротивится этому. Отец представился ему единственным спасителем. Да, конечно, ничего из всего этого не выйдет, и его снова оставят в покое, здесь, в колонии. Здесь одиночество, здесь желанный бездумный покой На потолке мерцали, непрерывно дрожа над самой головой, отсветы ночника. Здесь блаженство, покой.
В сумраке лестницы Антуан столкнулся с секретарем отца, г-ном Шалем; тот крысой крался вдоль стены и, завидев Антуана, замер с растерянным видом.
— А, это вы?
Он перенял от своего патрона пристрастие к риторическим вопросам.
— Плохие новости, — зашептал он. — Университетская клика выставила кандидатом декана филологического факультета, — пятнадцать голосов потеряно, самое меньшее; а с голосами юристов это составит двадцать пять. Каково! Вот что значит — не везет. Патрон вам все объяснит. — От робости он вечно покашливал и, считая, что у него хронический катар, целыми днями сосал пастилки. — Я побежал; маменька, должно быть, уже беспокоится, — сказал он, видя, что Антуан не отвечает.
Он вынул часы, поднес их к уху, потом поглядел на стрелки, поднял воротник и исчез.
Вот уже семь лет, как этот человечек в очках ежедневно работал у г-на Тибо, но Антуан знал его не больше, чем в первый день. Говорил он мало, тихим голосом и высказывал лишь прописные истины, громоздя друг на друга синонимы. Проявлял пунктуальность, был одержим множеством мелких привычек. Жил с матерью, к которой относился с трогательной заботливостью. Его имя было Жюль, но из уважения к своей собственной персоне г-н Тибо величал своего секретаря «господин Шаль». Антуан и Жак прозвали его «Пастилкой» и «Скукотой».
Антуан прямо прошел в кабинет отца, который, прежде чем отправиться спать, приводил у себя на столе в порядок бумаги.
— А, это ты? Плохие новости!
— Да, — перебил его Антуан. — Мне господин Шаль уже рассказал.
Господин Тибо коротким рывком выпростал подбородок из-под воротничка; он не любил, когда то, о чем он собирался сообщить, оказывалось уже известным. Антуану, однако, было сейчас не до того; он думал о предстоящем разговоре, и его заранее охватывал страх. Но он вовремя взял себя в руки и сразу перешел в наступление:
— У меня тоже очень плохие новости: Жаку нельзя больше оставаться в Круи. — Он перевел дух и договорил залпом: — Я прямо оттуда. Видел его. Говорил с ним. Обнаружились весьма прискорбные вещи. И я пришел с тобой об этом поговорить. Его необходимо забрать оттуда как можно скорее.
Оскар Тибо остолбенел. Его изумление выдал лишь голос:
— Ты?.. В Круи? Когда? Зачем? И меня не предупредил? Рехнулся ты, что ли? Объясни, в чем дело.
Хотя на душе у Антуана немного полегчало после того, как первое препятствие осталось как будто бы позади, все же он чувствовал себя скверно и не в силах был снова заговорить. Наступило зловещее молчание. Г-н Тибо открыл глаза; потом они медленно, как бы помимо его воли, опять закрылись. Тогда он сел за стол и положил на него кулаки.
— Объяснись, мой милый, — сказал он. И спросил, торжественно отбивая кулаком каждый слог: — Ты говоришь, что был в Круи? Когда?
— Сегодня.
— Каким образом? С кем?
— Один.
— И тебя… впустили?
— Естественно.
— И тебе… разрешили свидание с братом?
— Я провел с ним весь день. С глазу на глаз.
У Антуана была вызывающая манера подчеркивать концы фраз, что еще больше распаляло гнев г-на Тибо, но вместе с тем призывало к осмотрительности.
— Ты уже не ребенок, — заявил он, словно только что определил по голосу возраст Антуана. — Ты должен понимать всю неуместность подобного шага, да еще без моего ведома. У тебя имелись какие-то особые причины отправиться в Круи, ничего мне не сказав? Твой брат написал тебе, тебя позвал?
— Нет. Меня вдруг охватили сомнения.
— Сомнения? В чем же?
— Да во всем… В режиме… В том, каковы последствия режима, которому Жак подвергается вот уже девять месяцев.
Право, милый, ты… ты меня удивляешь!
Он медлил, выбирая умеренные выражения, но крепко сжатые толстые кулаки и резко выбрасываемый вперед подбородок выдавали его подлинные чувства.
— Это… недоверие по отношению к отцу…
— Каждый может ошибиться. И вот доказательства!
— Доказательства?
— Послушай, отец, не надо сердиться. Я думаю, мы с тобой оба желаем Жаку добра. Когда ты узнаешь, в каком плачевном состоянии я его нашел, ты сам первым сочтешь, что Жаку необходимо как можно скорее покинуть исправительную колонию.
— Ну уж нет!
Антуан постарался пропустить иронию г-на Тибо мимо ушей.
— Да, отец.
— А я тебе говорю — нет!
— Отец, когда ты узнаешь…
— Уж не принимаешь ли ты меня за дурака? Думаешь, мне нужны твои сообщения, чтобы узнать, что делается в Круи, где я вот уже десять лет провожу ежемесячные генеральные ревизии и получаю полный отчет? И где не принимается никаких решений без предварительного обсуждения на заседании совета, которым я руковожу? Так, что ли?
— Отец, то, что я там увидел…
— Довольно об этом. Твой брат мог наплести тебе бог знает что, благо ты так доверчив! Но со мной этот номер не пройдет.
— Жак ни на что не жаловался.
Господин Тибо явно был озадачен.
— Тогда в чем же дело? — проговорил он.
— Именно это-то и серьезнее всего: он говорит, будто ему так спокойно и хорошо, даже утверждает, что ему там нравится!
Услышав, что г-н Тибо удовлетворенно хмыкнул, Антуан добавил оскорбительным тоном:
— Бедный мальчуган сохранил такие прелестные воспоминания о семейной жизни, что предпочитает жить в тюрьме.
Стрела не достигла цели.
— Вот и прекрасно, мы с тобой, стало быть, во всем согласны. Чего тебе еще надо?
Антуан уже отнюдь не был уверен, что сможет добиться своего; поэтому он не стал пересказывать отцу все, что обнаружилось из признаний Жака; он решил изложить только основные свои претензии, а об остальном умолчать.
— Должен сказать тебе правду, отец, — начал он, останавливая на г-не Тибо внимательный взгляд. — Я подозревал, что обнаружу недоедание, плохое обращение, карцеры. Да, да, погоди. К счастью, эти страхи лишены основания. Но я увидел, что положение Жака во сто крат хуже — в нравственном отношении. Тебя обманывают, когда говорят, что одиночество сказывается на нем благотворно. Лекарство гораздо опаснее самой болезни. Его дни проходят в гибельной праздности. Об учителе не будем говорить; главное то, что Жак ничего не делает, его уже начинает затруднять малейшее умственное усилие. Продолжать этот опыт, поверь мне, — значит ставить крест на его будущем. Он впал в состояние такого безразличия, он так ослабел, что если оставить его в этом оцепенении еще на несколько месяцев, здоровье его будет подорвано навсегда.
Антуан не спускал глаз с отца; казалось, он всей тяжестью своего взгляда давит на это вялое лицо, стараясь выжать из него хоть каплю сочувствия. Подобранный, настороженный, г-н Тибо хранил тяжкую неподвижность; он напоминал тех толстокожих животных, чья мощь не видна, когда они отдыхают; да он и вообще походил на слона — те же большие плоские уши, те же хитрые искорки в глазках. Речь Антуана его успокоила. Уже несколько раз в колонии едва не вспыхнул скандал, нескольких надзирателей пришлось уволить без объявления причины, и в первую минуту г-н Тибо испугался, что разоблачения Антуана окажутся как раз этого свойства; он перевел дух.
— И ты думаешь, что сообщил мне что-нибудь новое? — спросил он добродушно. — Все, что ты говоришь, делает честь твоей доброте, мой милый, но позволь тебе сказать совершенно чистосердечно, что все эти меры воспитательного воздействия слишком сложны и что знания в этой области приходят к человеку не за один день и не за два. Поверь моему опыту и опыту специалистов. Ты говоришь — слабость, оцепенение. И слава богу! Ты ведь знаешь, каков был твой брат; ты что же думаешь, можно справиться с этим злобным характером, предварительно его не смирив? Постепенно ослабляя порочного ребенка, мы тем самым ослабляем его дурные наклонности, и уж только тогда можно добиться цели, — этому учит нас практика. Скажи, разве твой брат не переменился? Приступов злобы нет и в помине, он дисциплинирован, вежлив с окружающими. Ты и сам говоришь, что он полюбил порядок, полюбил размеренность своего нового существования. Как же не гордиться подобным результатом, достигнутым меньше чем за год!