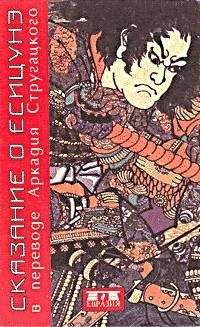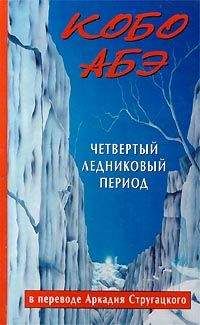И, слушая его, все пролили слёзы.
Судья Ёсицунэ спросил:
– Что ещё ты хочешь сказать?
– Вы попрощались со мной, – ответил Таданобу, – и больше мне ничего не надо. Правда, есть одно дело, но может оно уронить честь воина до скончания веков, и я боюсь о нём говорить.
– Мы видимся в последний раз. Какое дело? Говори.
Получив разрешение, Таданобу пал на колени и сказал так:
– Сейчас вы уйдёте со всеми, и я здесь останусь один. Подступит сюда настоятель Ёсино и осведомится: «Да где же здесь Судья Ёсицунэ?» И братия его, народ всё тщеславный, скажет: «Полководца-то нету, этот хочет сражаться за себя, но не биться же нам с кем попало!» И с тем они повёрнут назад, честь мою опозорив навеки. Так вот, хотелось бы мне только лишь на сегодня принять на себя высочайшее имя государя Сэйвы, что положил начало доблестному роду Минамото!
Сказал Судья Ёсицунэ:
– Всё бы хорошо, но вот что мне подумалось. Сумитомо и Масакадо, восстав против воли небес, нашли себе погибель. А обо мне ещё скажут вдобавок: «Выступил против воли государя, прежние друзья от него отвернулись, и держаться ему уже не по силам. Живёт он от утра до заката, лишь бы прожить лишний день, а когда наконец бежать стало некуда, высочайшее имя Сэйва навязал своему вассалу». Что отвечу я на такое злословье?
– А я поступлю, как уместно, – возразил Таданобу. – Когда монахи надвинутся, я буду стрелять до последней стрелы в колчане, а когда колчан опустеет, я меч обнажу, чтобы вспороть себе живот. И скажу я им: «Вы полагали, что я и есть Судья Ёсицунэ? Я ведь всего лишь его верный вассал и зовусь Сато Сиробёэ Таданобу. Я принял на себя имя моего господина и в схватке с вами выказал ему свою преданность. А теперь отрежьте мою голову и представьте Камакурскому Правителю». Сказавши так, я взрежу себе живот и умру, а уж после этого никакая клевета не коснётся вашего имени.
– Что ж, господа, – произнёс Ёсицунэ. – Коль он умрёт, всё разъяснив с последним своим вздохом, препятствовать я не могу.
И Таданобу принял на себя имя государя Сэйва. «В этом мире это меня прославит, а в мире ином князь Эмма, судья всех умерших, услышит хвалу в мою честь», – думалось ему.
– Что за доспехи на тебе? – спросил Ёсицунэ.
– Это доспехи, в которые был облачён мой брат Цугинобу в последнем своём бою, – ответил Таданобу.
– Стрела правителя Ното пронзила их насквозь, так что нельзя на них полагаться. Даже среди монахов могут случиться отменные лучники. Прими вот эти.
И Ёсицунэ вручил Таданобу свой алый панцирь и белозвездный шлем. Таданобу снял с себя доспехи, положил их на снег и попросил:
– Отдайте кому-нибудь из «разноцветных».
Однако Судья Ёсицунэ подобрал их и тут же в них облачился, сказавши:
– Других доспехов не имею!
Поистине беспримерный поступок!
– Нет ли у тебя каких-либо забот о доме? – спросил Ёсицунэ.
И Таданобу сказал:
– Как и все люди, я появился на свет в «мире живых существ», и как же мне не помнить о моих близких? Когда мы покидали наш край, там остался мой сын трех лет от роду. Ныне, войдя в возраст, спрашивает он: «Где мой отец?», и хотелось бы мне услышать его голос! Мы покинули Хираидзуми уже после того, как вы выступили оттуда, мой господин, и поэтому мы пролетели через Синобу, подобно шумной стае перелётных птиц, но нам удалось заехать к матушке нашей и попрощаться. Я помню, словно это было сегодня, как престарелая мать прижималась в слезах к рукавам своих сыновей. В голос рыдала она и говорила нам так: «Выпадает мне в преклонных годах одиноко печалиться от разлуки с родными детьми! Смерть разлучила меня с супругом моим, как разлучила с той барышней из соседнего уезда Дата, что заботилась обо мне столь сердечно. Невыносима была моя скорбь, но всё же взрастила я вас, родные мои, и, хоть жили мы не под единой крышей, утешением служило мне то, что живём мы в одном краю. А теперь вдруг Хидэхире пало на ум отправить вас обоих под начало Ёсицунэ, и, конечно же, поначалу это повергло меня в печаль, но потом я возрадовалась, сколь достойными выросли вы у меня. И пусть предстоит вам сражаться хоть целую жизнь, бейтесь храбро, не опозорьте трусостью прах отца. И пусть вы со славой пройдёте до пределов Сикоку и Кюсю, всё равно, коли только будете живы, раз в год или раз в два года возвращайтесь ко мне повидаться. Один бы остался со мной – об одном бы только печалилась, а когда уходят оба, и столь далеко, – каково-то мне будет?» Так плакала наша матушка, надрывая голос. Оторвавши её от себя, мы сказали ей лишь: «Постараемся!» – и ускакали, и целых три года не давали ей знать о себе. Весною прошлого года я послал к ней нарочного с вестью, что Цугинобу убит. Беспримерно было горе её, но она сказала: «Что ж, больше нет Цугинобу, тут ничего не поделать. Зато будущим годом весною обещает быть ко мне Таданобу, и это мне в радость. Поскорей бы прошёл этот год!» Ныне ждёт она в нетерпении, и, когда вы, господин мой, прибудете в наши края, она поспешит в Хираидзуми и спросит: «Где Таданобу?» Безутешна будет она, коль кто-нибудь скажет ей мимоходом, что-де Цугинобу убит у Ясимы, а Таданобу сгинул в горах Ёсино. Это мучит меня, как тяжкая вина пред нею. Господин мой, если вы благополучно достигнете нашего края, прошу вас: не творите заупокойных молитв ни по мне, ни по Цугинобу, а явите лишь заботу о матери нашей.
И, ещё не договорив, Таданобу прижал рукав к лицу и разрыдался. Пролил слёзы и Судья Ёсицунэ, и все шестнадцать вассалов оросили слезами нарукавники своих доспехов.
– Ты намерен стоять здесь один? – спросил Ёсицунэ.
– Из десятка молодых воинов, что я привёл из Осю, кое-кто погиб, а иных я вернул в родные края. Но трое-четверо останутся здесь со мною стоять насмерть.
– Не вызвался ли остаться кто-нибудь из моих людей? – спросил Ёсицунэ.
– Вызывались Бидзэн и Васиноо, но я убедил их не покидать вас. Впрочем, долю мою пожелали разделить двое из ваших «разноцветных».
Услышав это, Судья Ёсицунэ произнёс:
– Эти двое – замечательные духом люди.
О том, как Таданобу сражался в горах Ёсино
Таданобу тут же снарядился перед лицом господина. Поверх кафтана из пятнистого шёлка облачился он в алые доспехи с пунцовыми шнурами, подвязал под подбородком тесьму белозвездного шлема и опоясался мечом «Цурараи» длиной в три сяку пять сунов, унаследованным от предка своего, самого Фудзивары Фухито. Изукрашенный золотом меч, что даровал ему Судья Ёсицунэ, он засунул за пояс. За спину повесил колчан на двадцать четыре стрелы, и заполняли этот колчан боевые стрелы, оперённые чёрно-белым ястребиным пером, а также длинноперые гудящие стрелы в шесть сунов с огромными раздвоенными наконечниками, и на сун выдавалась над его шлемом стрела с оперением сокола-перепелятника – фамильная драгоценность дома Сато. Лук же был у него короткий, из узловатого дерева и отменно крепкий.
Между тем солнце было уже высоко. Шестнадцать вассалов и Ёсицунэ удалились своею дорогой. Было так, что за жизнь супруга отдала свою жизнь жена Дун Фэна и за жизнь наставника предложил свою жизнь Сёку-адзяри, ученик преподобного Тико. Но всех превзошли вассалы рода Минамото – те, кто забывал себя, отдавая жизнь, те, кто жертвовал жизнью за господина. Не ведаю, как было в старину, а в наше смутное время Конца Закона таких примеров немного.
Было двадцатое число двенадцатого месяца, зимнее небо заволокло беспросветными снеговыми тучами, и свирепый ветер чуть не ломал деревья. То и дело приходилось стряхивать снег, валивший на стрелковый нарукавник, и сугробы, покрывшие наспинные пластины, походили на белое хоро. Таданобу и шестеро его воинов встали в Восточной долине Срединной обители. Укрывшись, как за щитами, позади пяти-шести больших деревьев, они возвели из снега высокий вал и, нарубив ветвей юдзуриха и сасаки, разбросали их перед собой. Затем они стали ждать, когда же нападут на них три сотни врагов из храма Дзао-Гонгэна. «Вот-вот они появятся», – так думали они, но время шло, и вот уже наступил час Обезьяны, а никто не появлялся.
– День клонится к закату, – сказал тут кто-то. – Не стоит медлить здесь, пойдёмте вслед за Судьёй Ёсицунэ.
Оставив свой лагерь, пошли они в отступ, но не прошли ещё шагов двухсот, как увидели, что яростные ветры уже покрыли снежными заносами следы ушедшего отряда Ёсицунэ, и тогда вернулись они обратно. И вот, лишь настал час Курицы, три сотни монахов вступили вдруг в долину, дружно огласив всё окрест боевым кличем. Семеро из своей крепости отозвались не так громко, но дали знать, что ждут врагов.
В тот день вёл монахов не настоятель, а некий монах по имени Кавацура Хогэн. Был он беспутен и дерзок, но он-то и возглавил нападавших. Облачён и вооружён был он с роскошью, не подобающей священнослужителю. Поверх платья из жёлто-зелёного шёлка были на нём доспехи с пурпурными шнурами, на голове красовался шлем с трехрядным нашейником, у пояса висел меч самоновейшей работы, за спиной колчан на двадцать четыре боевых стрелы с мощным оперением из орлиного пера «исиути», и оперения эти высоко выдавались над его головой, а в руке он сжимал превосходный лук двойной прочности «фтатокородо». Впереди и позади него выступали пятеро или шестеро монахов, не уступавших ему в свирепости, а самым первым шёл монах лет сорока, весьма крепкий на вид, в чёрном кожаном панцире поверх чёрно-синих одежд и при мече в чёрных лакированных ножнах. Неся перед собой щиты в четыре доски дерева сии, они надвигались боком вперёд, пока не приблизились на расстояние полёта стрелы, и тогда Кавацура Хогэн, выйдя из-за щитов, зычным голосом прокричал: