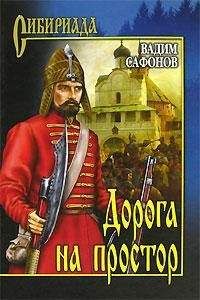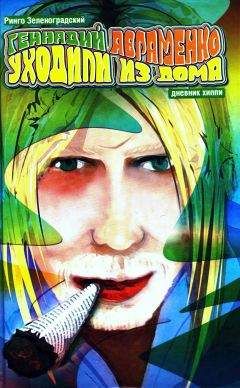– Тавда.
И заколебалось поредевшее в боях казачье войско: слышало, знало, что по Тавде – последний путь, путь к Камню, на родину… вдоль по длинной плоской намытой косе чернели казачьи сотни.
Старик в широких портах, голый по пояс, чинил рубаху. Поднял ее, рассмотрел на свет слезящимися глазами, потер костяшками левой руки красновато-черную, будто выдубленную шею, вытащил кожаный мешочек, набил долбленную трубочку. Рубаху положил на землю, привалил чуркой, а сам поковылял к костру, присел на корточки и раскурил угольком.
Хмурый худощавый казак следил за стариком, лежа на брюхе.
– Дай потянуть, – попросил он.
Старик пососал еще, потом вынул трубку изо рта, обтер рукой и передал худощавому, примолвив:
– На зельюшко один Мелентий запаслив.
Тот молча выпустил горький дым.
– Ото тютюн, як у турецкого паши, – отозвался молодой казак, без шапки, с короткими бесцветными густыми волосами, покрывавшими его голову, как мех.
– А тебя вчерась паша гостевать звал? – вступился четвертый.
– Был, браты, у меня тютюн, – заговорил пятый, ножом стругавший ветку. – Ех! Креста не сберег, его сберег. Сереге Сниткову дал поберечь, дружку. А того Серегу туринская волна моет, нас зовет…
– Шалабола, – зло отозвался худощавый.
Все примолкли.
– Пойти днище постукать, – сказал старик. – Забивает вода в струг, что будешь делать!
– Уж конопатку сменяли, сотский велел, – охотно стал рассказывать круглолицый парень, что пошутил про пашу. – Намедни на "Молодухе" нашей издырявил вражий дух борт, чисто решето. Стрелой бьет насквозь, ровно пикой холст. Где берет таку стрелу?
– Нашву нашить…
– Лес-то мокрый, тяжелый, – валить его, братцы, да пилить с голодухи…
– Да ты какой сотни?
– Тебе что?
– Нет, ты скажи!
– Да он Кольцовой.
– Оно и видно – прыгуны. У нас в Михайловской – служба, ни от какой работы не откачнешься.
– Сумы зато у вас толсты.
– Может, у есаулов и толсты…
– А что, братишечки, – сказал круглолицый балагур, – мужик-то – он мается, землю ковыряет век, скупа землица мужику, – грош соберет, полушку отдаст.
– На Руси, братцы! – вдруг выкрикнул радостно и в то же время со странной укоризной светлоглазый казак в ладной чистой однорядке, обтягивавшей сильные плечи и стройный стан.
Круглолицый балагур повернулся к молодому запорожцу:
– То ж у вас, у хохлов: палку в землю воткни – вишеньем процветет. Худощавый бросил курить, осторожно вытянул правую босую ногу, морщась, закатил штанину. Колено было замотано тряпкой.
– Хиба ж вишня, – равнодушно отозвался запорожец, пригладив меховые волосы.
Худощавый казак разматывал тряпку. Бурое пятно прошло в ней насквозь, и он прикусил нижнюю губу белыми ровными зубами.
– Саднит, Родивон?
– Не, портянка сопрела, – серьезно вместо Родиона ответил балагур. – Посушить, не видишь, хочет!
– Мажет он чем стрелу, что ли, – сказал казак, сидевший у воды. – Ой, вредные до чего… Царапка малая, а чисто росой сочится и сочится. Не заживает, хоть ты что.
– Сырое бы мясо приложить, всяк яд оно высасывает.
– Ты бы, дед Мелентий, пошептал.
Родион Смыря сказал с сосредоточенной злобой:
– Супротив его стрел не шептать – железные жеребья нарезать заместо пуль. Пусть спробует раны злее наших.
Мелентий Нырков, затягивая пояс, добродушно проговорил:
– И чего это: раньше не сойдется очкур, натачать уж думал. А ноне засупонюсь – как меня и нету. Ангел-то, видать, хранитель полегчил – ходить чтоб способней.
Старик собрался, заковылял, отыскивая топор.
Светлоглазый красавец показал на восток:
– Дождь на низу-то. И вверху, видать, лило – взмутилась Тавда. До вечера-то развиднеется, а, дед Мелентий? Плыть-то нам.
– Вихорь развеет: бела туча.
– Слу-у-шай! – протяжно разнеслось вдоль берега.
Вдруг зашевелились, закопошились. Раненые подбирали с песка разложенные посохнуть лоскуты.
– По стругам!
Мелентий Нырков, держа наперевес топор, перекинул свободной рукой за плечи зипун, вздохнул:
– Владычица!
Все, разбившись на кучки, двинулись – каждая кучка к своему стругу – на Тобол.
Но вот один казак оторвался от кучки, следом за ним еще несколько, потом многие; они торопливо отбегали обратно, шапками зачерпывали тавдинской воды.
– Ушицы похлебать? – сердито окликнул Родион Смыря, оправляя лядунку. Казак к которому он обращался, отпил глоток, но не вылил воды из шапки, и сказал, глядя на нее:
– Вишь: играет. Прах светлый, земляной, легкий! Чисто рыбки…
– А Тобол небесной мутью мутен, так мнишь?
– Черна она тут, земля. Суземь…
Неожиданно лицо Родиона, угрюмое, с багровым шрамом, покривилось.
– Дай-кось напоследях, – тихо, сквозь зубы, попросил он.
Но уж тот, все держа шапку донцем книзу, кинулся бегом за своими.
И вдруг нетвердо, неуверенно еще, будто только просясь и отыскивая себе место, поднялся над говором, над нестройным шумом запев: по горючим пескам, По зеленым лужкам…
Новый голос поправил: да по сладким лужкам…
Быстра речка бежит, – продолжал запевала.
И разом несколько голосов перехватили:
Эх, Дон-речка бежит!
И уже понеслось над всем берегом в звучной торжествующей чистоте:
Как поднялся бы Дон
– Сине небо достал. как расплещет волну
– Не видать бережков: сине море стоит.
Ветер в море кружит, Погоняет волну…
Люди садились в струги; примолкла песня, но не умерла совсем, тихо, с жалобой продолжалась она на другом конце косы – далеком, оттуда, где родилась: а уехал казак…
Заливисто, высоко вступил, запричитал голос Брязги:
Ой, ушел в дальний путь…
Снова охнул берег:
На чужину гулять,
Зипуна добывать…
Тогда, вырвавшись, овладев рекой и берегом, опять взвился голос Брязги:
“Не забудешь меня!
Воротись до меня",
– Дон-река говорит…
Подстерегши, чуть только зазвенев, обессилел он, в тот же миг выступил другой, густой, настойчиво зовущий, в лад глухо ходящих, стукающих в уключинах весел:
“Я тебя напою,
Серебром одарю",
– Дон-река говорит.
И опомнился, окреп, мощно покрыл серебряный водяной простор хор:
Я твое серебро
В домовину возьму.
Ино срок помирать
Нам не выпал…
– Нам не выпал, братцы, еще, – выговаривал голос Брязги.
Гей та бранная снасть,
Та привольная сласть
– То невеста моя!
Из отдаления невнятнее, дробимая эхом, долетела песня, и, когда не видно стало стругов, доносилась она, точно далекий дробный постук копыт конных полков из-под черной крутой, нависшей на востоке тучи.
Хан Кучум понял наконец, что не следовало верить цветистым речам Кутугая. Стрела – знак войны – теперь была вверена ханским гонцам; но им долго пришлось скакать, пробираясь в отдаленные урочища. Согнанный народ спешно рыл глубокие рвы вокруг городков на Иртыше. В лесах валили деревья – засекали дороги.
Махмет-Кул сидел рядом с ханом.
Иногда, когда входили и повергались перед ханским седалищем мурзы, беки и вожди племен, молчал старый хан, а громко, смело, повелительно говорил Махмет-Кул.
И хан с любовью обращал к племяннику темное худое свое лицо.
Вечером, когда они остались одни и зажгли в покое светец с бараньим жиром, Махмет-Кул сказал:
– Едигер Казанский и Иван Московит стояли друг против друга. Каждый тянул в свою сторону веревку, что свил Чингиз. Чуть крепче бы мышцы Едигера – и вся она была бы у него. То не был год зайца, но год свиньи. Мурзы, беки – подлая свора – перегрызли силу Едигера. Ты жил уже, когда снова могла бы воссиять слава Бату, а вышло так, что вознесся Московит. Но ты жив еще и в твоей юрте, хвала богу, свора лижет ханскую руку.
Хан безмолвно кивнул. Не к сыновьям от многих жен – к этому юноше прилепилось его сердце, одинокое после гибели Ахмет-Гирея, брата; любовь и благодарность переполняли душу хана, и не было в ней горечи. Но мудрому не нужны слова, и неподвижным оставалось его лицо.
Махмет-Кул встал; на шапке его был знак полумесяца. Во дворе он глотнул напоенный полынью и гарью очагов ночной воздух. Прыгнул на коня, погнал вскачь, закинув голову; Млечный путь – Батыева дорога качалась над ним.
Суда плыли, сгрудившись, тесно держась одно к другому, не решаясь растягиваться по реке.
Ввечеру тревожно заплакал рожок с обережного челна. Татарская конница тучей стояла на берегу. Передний всадник пригнулся к лошадиной гриве. Сзади него не шелохнулись волчьи шапки воинов. Концы коротких копий горели на солнце.
Казалось, одно гигантское тело напряглось и застыло в неподвижности там, на берегу, готовясь к прыжку.