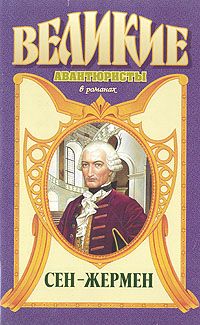Весь день я не мог найти себе места и с наступлением темноты погрузился в транс. Где побывал, на что насмотрелся, сейчас уже не помню. Всплывает что-то смутное — гигантское баньяновое дерево, под ним, на изогнутых корнях, беседующий с учениками Будда. «Ночь располагает, делится он с учениками, — а день исполняет».
Утром я потребовал встречи с полковником Макферсоном. Он явился на следующий день, и мы договорились, что он передаст мое послание австрийскому посланнику при английском дворе. Я просил, чтобы полковник настоял на том, чтобы мое письмо, как можно более спешно было доставлено в Вену и передано лично в руки Марии-Терезии. В нем я сообщал царствующей особе о своем незаконном задержании, о попытках дознаться, каково мое подлинное имя.
«Ваше величество, — писал я, — я честно выполнял все условия соглашения касающиеся меня лично и взаимоотношений с отцом. Нигде, ни разу я не упомянул о подлинной истории дома Ракоци, сменил имя, но все эти меры могут оказаться бесполезными, если я и верный мне человек и далее будут испытывать незаслуженные страдания. Те, кто вверг нас в казематы, возможно, не отдают себе отчет в том, какую бурю может вызвать дальнейшей промедление с нашим освобождением. В конце концов я не вижу надобности скрывать свое подлинное имя. Ради чего? Только вы можете предостеречь британское правительство и намекнуть, что иной раз ретивость чиновников может довести до беды. До скандала европейского масштаба, который не нужен ни Вашему Величеству, ни Его величеству королю Георгу II. При этом мне бы хотелось верить, что вы, добрая мать всем своим подданным, до сих пор испытываете добрые чувству к незаслуженно обиженному человеку, именующему себя графом Сен-Жерменом…»
Благодаря настойчивости Макферсона и помощи друзей мое письмо в спешном порядке достигло Вены. Ответ пришел тоже на удивление быстро Мария-Терезия не желала во время боевых действия ссориться с венгерским дворянством, вожди которого непременно воспользовались обнародованием подлинной истории семьи Ракоци, чтобы выторговать новые уступки со стороны австрийской монархии. А в Лондоне дело вновь застопорилось. Я не мог понять, неужели туманный Альбион решил выдержать характер? Разве что Жака перевели в Тауэр и поместили в соседнюю со мной камеру. Мне пришлось изрядно помучиться прежде, чем он смог отойти от побоев, которым подвергался в Ньюгейте. Мой верный друг ни единым словом не опорочил мою честь. Здесь он свободно мог предаваться исполнению обрядов мусульманства молился пять раз в день, то и дело вызывал к Аллаху. Наконец я не выдержал и поинтересовался, откуда вдруг такая любовь к исповеданию мухаммедова толка?
— За него меня там более всего и колотили — обзывали мусульманской собакой, которая упорствует в ереси. Не видать, говорили мне, тебе вечного спасения. Как ещё я мог подтвердить верность Создателю, как не поклоняясь ему, как велит Коран.
Только спустя пару недель после разговора австрийского посланника с его величеством нас выпустили на свободу. На следующий день я был приглашен в лорду-казначею, где тот от имени британского правительства принес официальные извинения. Потом спросил, как долго я ещё собираюсь гостить на британских берегах?
— О, это зависит от того, как скоро я смогу удовлетворить требования некоего молодого человека, который почему-то полагает, что я распускаю о нем порочащие сведения.
— Очень сожалею, — лорд-казначей вытер губы, — но это невозможно. Сэр Уинфред вчера отбыл в наши американские колонии к месту службы.
Так вот почему они так долго задерживали мое освобождение! Спайка в среде английской аристократии была железная.
— Надеюсь, ему подобрали достойное его знаний и опыта место? Уж не губернатором ли он отправился на запад.
— Еще раз сожалею, но как раз опыта и знаний этому молодому человеку очень не достает. Как, впрочем, рассудительности и обязательного для любого джентльмена условия всегда платить. Так что место у него незавидное, секретарское, в какой-то глуши. Вряд ли он сумеет сделать там карьеру… Тут ещё новая напасть — отец его, как оказалось, испытывает серьезные финансовые затруднения. Так что нашему удальцу предстоит своими руками пробиваться в жизни.
— Надеюсь, этот опыт ему пригодится в последующем, — сказал я.
— Сомневаюсь, — коротко ответил лорд-казначей и на некоторое время задумался. Потом неожиданно резко спросил. — Послушайте, граф, вы что, в самом деле уверены, что путем внушений, просвещения, мятежей, чудес, революций наконец можно исправить человеческое сердце? Что все дело в правильном устройстве общества, человеколюбивом воспитании, здоровом образе жизни и верности идеалам?
— Так, по крайней мере, утверждал Христос…
— Нет, любезный граф, он утверждал, что настанет судный день и только там — слышите, только там! — каждому будет воздано по заслугам.
— Это всего лишь одно из толкований, приписываемых сыну Божьему. Помнится, в Галилее он признался мне, что более всего он боится, что его поймут превратно…
— В Галилее? — перебил меня лорд-казначей.
— Ну да, неподалеку от Капернаума, на дороге, ведущей к Генисаретскому озеру. Я так ясно различал его во сне. Он обмолвился, что судный день придет тогда, когда Джон, повстречав Ахмеда, поделится с ним хлебом. Они поедят вместе и разойдутся, и никогда больше не встретятся. Домом им будет вся земля, братьями все люди. И ранее этого срока никакого судного дня не будет.
Лорд-казначей сдернул салфетку, повязанную у горла и бросил её на стол.
— Вот что, граф, я обещаю, что с отъездом из Англии у вас хлопот не будет, но Бога ради прошу поспешить. Бога ради!
Утром, в седьмом часу я разбудил Жака и приказал ему закладывать экипаж.
— Ф такую рань? — он зевнул. — Хорошенькое время ваша светлость выбрала для визитов?
— У меня нет ни одной свободной минутки. Придется потревожить друзей… Послушай, как только доставишь меня на место, немедленно возвращайся сюда, на улицу Сен-Северин, запри наш экипаж, лошадей в стойло, более в Париже мы ими пользоваться не будем. Наймешь карету поскромнее, чтобы не бросался в глаза — у тебя же есть знакомые среди местных извозчиков. Только смотри, чтобы снаружи была чистая, а внутри не было зловония. Сам сядешь на козлы и явишься за мной к «Прокопу»,[94] что возле Французского театра. Я сяду в уголке у входа. Ко мне не подходи, покажись издали. Я последую за тобой и сяду в экипаж.
— Бог мой, опять конспирация, опять какие-то жуткие тайны! Фсе-то вы хлопочете, суетитесь, а толку!
— Ты что, забыл Ньюгейт? Теперь хочешь попробовать, чем угощают в Бастилии? Господин Морепа[95] поклялся, что как только я появлюсь в Париже «вытрясти из этого проходимца — то есть, меня — все, что ему — то есть, мне — известно о заговоре против королевской власти». Ну, со мной они обойдутся деликатно, а вот тебе кожу раскаленными шомполами смажут!
— Это точно, это как пить тать. Вы фсех убеждаете, предупреждаете, письма пишете, а стратать мне.
Жак неожиданно замер. Застыл в сидячем положении с левым сапогом в руке. Это был крупный, чуть обрюзгший мужчина. Лысеющая голова, низко опущенные уши и невеселые, чуть на выкате глаза придавали ему сходство с деревянной скульптурой, изготовленной безвестным деревенским резчиком. Такие изображения часто встречаются в мелких сельских церквушках. Силой мой верный слуга отличался немереной, ноги ставил разлаписто, носки слегка внутрь. Любил ни с того, ни с сего задумываться, при этом останавливался на полдороге, обрывал разговор на полуслове. Вот и сейчас он несколько минут молчал, потом неожиданно спросил.
— Послушайте, фаша светлость, вы что, в самом теле верите, что в Париже со дня на день случится мятеж?
— Революция, мой друг. Не мятеж, а революция.
Жак поежился.
— Тогта плохо наше дело. Угофорами здесь не поможешь.
— Как же не поможешь, если в руках короля пушки, ружья, солдаты… Когда у тебя под рукой подобные игрушки, очень просто убедить других прислушаться к голосу разума.
— Э-э, — махнул сапогом Жак. — Когда нарот свихнется — или прозреет, что, в общем-то, отно и то же — его никакие пушки не остановят. Кто из орутий будет стрелять? Такие, как я, Жаны, Жеромы, Франсуа. Вон госпотин Массенá, с которым мы частенько сиживали в кофейне. Ну, я рассказывал! Который за четырнатцать лет в королефской армии дослужился до сержанта, а теперь вышел в отстафку?
— А-а, помню, помню, приметная личность, — кивнул граф. Историческая. Кстати, это я обратил твое внимание на этого господина.
— Кто же спорит. Возьмем, например, этого госпотина Массена. Он храбрый и толковый солтат, ему бы батальоном комантовать, а его дальше сержантов не пустили. Не творянского, говорят, происхожтения. А ну-ка, голубчик, поттвертите, что у вас пять колен голубой крофи. Ну, и какая пушка его остановит, если он волю почует. Если ему скажут — гражтанин Массена, фот вам батальон, дайте жару этим лилейным молотцам во фраках с потрезанными фалтами.