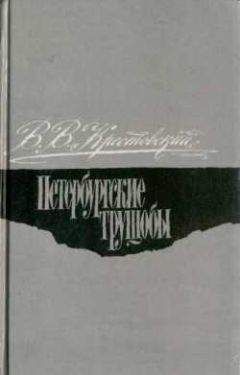«Что же это значит?!» – с удивлением задает себе Маша вопрос, и вдруг ей пришло на память, что у них в Колтовской и на Петербургской стороне неоднократно, бывало, рассказывали, как разные мошенники, около мытнинского и Крестовского перевоза, держат по зимам ночлеги в пустых барках, выходя оттуда на грабеж и даже, случается, людей иногда убивают.
«Верно, и здесь мошенники», – подумала она; но при этой мысли не ощутила ни малейшего страха: рассудок, с сознанием своего отчаянья и горя, говорил ей, что надо покончить с собою, и покончить сегодня же, так статочное ли дело, при таком намерении, пугаться ей каких-нибудь мошенников?
Ноги ее меж тем начинало сильно знобить от продолжительного стояния на льду на одном и том же месте, а порывы ветра пронизывали ее холодом.
«Однако, чего же я жду, в самом деле?.. Только время даром уходит!» – встрепенулась Маша, стряхнув с себя все эти посторонние и почему-то преимущественно ползущие в голову мысли, которые как-то сами собою, непрошенные появляются у человека именно в подобные и, по-видимому, самые решительные мгновенья его жизни, когда, казалось бы, вовсе не должно быть места в голове посторонним мелочам, а эти мелочи меж тем так и плывут одна за другою, словно прихотливые клочки облаков по небу.
И снова подошла она к елочкам – и вдруг снова встают те же самые мысли, и ясно воображаемое ощущение холодной воды, и невольный ужас, при взгляде на темный кружок проруби!
«Нет!.. Я не могу утопиться!.. сама – не могу: сил не хватает! – прошептала она в отчаянии. – Господи!.. ведь это… это – самоубийство!.. Страшно… ужас берет!.. Не могу я!»
И вдруг увидела Маша, что человек выбежал из барки, бросился тут же на снег и стал копошиться в нем. Что именно делал он? – она понять не могла и только пристально следила за его движениями. Мысль о своем безысходным положении и о необходимости умереть заволоклась в ее голове каким-то туманом. Она как будто потеряла нить этих мыслей, как будто они исчезли куда-то, испарились подобно туманному облачку; от Маши вдруг ушло куда-то и ее настоящее, и ее прошлое, а сама она безучастно и безотносительно глядела по ту сторону, на неизвестного человека, словно бы ей и делать больше нечего. Случается, что именно такие бездумные, бесчувственные, рассеянные минуты откуда-то вдруг слетают на человека среди самого беспредельного отчаяния и горя. Душа человеческая, словно бы от сильной усталости, возбужденной этим отчаянием, возьмет вдруг да и закоченеет, замрет, застынет совсем на несколько минут в таком рассеянном и ко всему безучастном положении. Нет в ней ни намека мысли и намека чувства, нет даже во всем организме ощущения какого-либо. Стоит Маша и смотрит на человека, а для чего стоит и зачем смотрит – про то и сама не ведает. Но вот он снова поволок ноги в свою барочную конуру. «Верно, больной, – подумала Маша, и с этой мыслью словно очнулась. – Что же теперь остается?.. Умереть – духу не хватило… жить – тоже не хватает решимости…»
Она тихо побрела вдоль по замерзлой реке – туда, где чернелась, как темный зев, арка Обуховского моста. Вошла в эту арку и остановилась, осматривается – темно, сверху дробный топот копыт раздается глухо, и невольно кажется, будто от этого топота и гула сейчас обрушится арка, – но арка крепка и стоит нерушимо уже многие десятки годов. В темноте ничего не видно под мостом.
«Остаться разве здесь? – подумала Маша. – Здесь все же спокойнее… отсюда не выгонят, не увидят… Говорят, что иные ночуют под мостами».
И она уже думала было где бы поудобнее приютиться у гранитной стенки, а ветер, с двух сторон врываясь в узкое пространство арки, свистел и выл под сводом, с какой-то дикой, словно б одушевленной силой, и невольно наводил страх на молодую девушку.
Опустилась Маша на лед, подле кучи свезенных сюда уличных сколков мерзлой грязи и снегу, и вдруг рука ее уперлась в какую-то шерсть. Маша быстро вскочила на ноги и с отвращением выбежала вон из-под арки. Сердце ее быстро екало, и колени дрожали от ужаса. Это была какая-то дохлая падаль, но девушке почудилось, будто она ухватилась за волосы человеческого трупа. Ей сделалось страшно – страшно быть одной, и потому она торопилась убежать из этого места, и снова очутилась недалеко от полуразрушенной барки.
«Там, верно, люди есть, – подумала она, глядя на притворенную дверь каюты, – там можно приютиться. Пойду к ним! Может, не выгонят… упрошу Христа ради».
Эта мысль, давшая слабую надежду на приют и спокойствие, немного ободрила девушку, которая несмело переступила порог каюты, но вместо человеческого голоса услыхала одно только глухое ворчанье.
Все тихо, а людей как будто совсем незаметно. «Что же это такое?! – И Маша в недоумении остановилась у порога. – Где же человек-то? Ушел он, что ли?.. Одна собака только… Господи! Все же это легче: не одна хоть буду… все же есть живое существо…»
Прислушалась – чу! – кроме рычанья собаки еще чье-то дыханье слышно – ровное, сонное дыханье.
«Это верно такой же несчастный бездомник, как я! – подумала девушка, все еще прислушиваясь к дыханию. – Верно, и ему нет иного места на свете, кроме заброшенной барки…»
«Стало быть, не одна я на свете… стало быть, и еще есть такие же… Может, и много их так-то шатаются, да живут же ведь и в голоде, и в холоде, а не думают о смерти».
Так думала Маша, и эта мысль, нежданно-негаданно, произвела на нее совсем особенное впечатление: она как будто несколько довольна и эгоистически рада была, что не одна она такая на свете, что есть кроме нее и другие, которые, может быть, столько же, а может, еще и больше терпят да мучатся – и ей как будто несколько спокойнее стало вдруг на душе от этого далеко не веселого ожидания.
«Вот спит же себе человек, стало быть, если уж больше негде, так можно и здесь приютиться, – подумала вслед за тем Маша. Обстоялась она несколько времени, и чувствует, что в каюте не так холодно, как на улице и, особенно, как среди Фонтанки, да и ветер не продувает, и как будто спокойнее, чем невесть где по городу шататься. Она, почти до изнеможения, чувствовала страшную усталость, при которой, после полного сознания о недостатке решимости на самоубийство, ее пугала мысль бесприютного шатания по улицам, вплоть до рассвета, где ни сесть, ни простоять сколько бы самой хотелось, на одном и том же месте, нет никакой возможности: придут и сдвинут, а не то люди вокруг соберутся, станут удивленно глазеть на тебя, да допытывать, зачем стоишь, мол, так долго, да как да почему, да отчего именно с места не двигаешься?
«Чем там шататься, так лучше здесь отдохнуть, – решила Маша, выискивая себе место в противоположном углу от Вересова. – Не выгонит же он меня отсюда… А и выгонит, так все-таки, хоть сколько-нибудь отдохнуть успею… Да зачем ему гнать! Ведь барка столько же и моя, сколько и его: барка общая».
И, успокоенная таким решением, девушка плотнее закутала голову и грудь своим широким платком, покрепче запахнула бурнусишко и села, прижавшись к стене, в темный угол.
Вскоре и ее охватил не то что сон, а какое-то легкое, тонкое забытье – скорее даже оцепенение, при котором, как будто и спишь, и в то же время смутно окружающую действительность слышишь.
* * *
Был первый час в начале, когда проснулся Вересов от холода, который начал пробирать его члены. Спал он около трех часов, и этот сон, не подкрепляя, только хуже еще разломил ему все тело. Открывши глаза, он заметил в каюте какой-то зеленоватый полусвет, допускающий различать, хотя и смутно, окружающие предметы. По небу носились клочками беловатые тучки, разорванные ветром из одной сплошной массы, покрывавшей горизонт уже несколько суток. В вышине стояла полная луна, и несколько зеленовато-серебристых лучей ее пробились в два барочных оконца и двумя туманными полосами косвенно пронизывали темноту каютки. Одна из этих полос западала в противоположный угол и неровными пятнами ложилась на лицо и местами на скорчившуюся фигурку Маши.
Вересов начал вглядываться и с полуиспугом, с полуизумлением заметил сперва чье-то лицо, тускло озаренное луною, а потом и всю эту фигурку. Подумал было он, будто это во сне ему грезится, но тут же убедился, что не спит, и что в действительности в том углу есть кто-то.
– Кто тут? – громко окликнул Вересов.
Девушка вздрогнула, раскрыла глаза и пристально стала глядеть на своего соночлежника, но с места не двигалась.
– Кто тут? – еще громче и с некоторым беспокойством повторил последний, подымаясь на ноги.
Маша робко встала и торопливо направилась к дверке, как вдруг тот ухватил ее за рукав и пристально стал всматриваться в лицо.
– Я уйду… я сейчас уйду… – прошептала Маша, испуганная его неожиданным прикосновением.
– Да я не гоню… Разве я гоню тебя? – возразил Вересов. – Я только спросил, кто ты?
Девушка без ответа опустила голову: она не знала, уйти ли ей, или остаться – и пока в нерешительности стояла на одном месте.