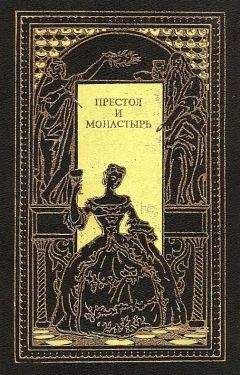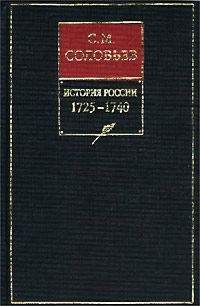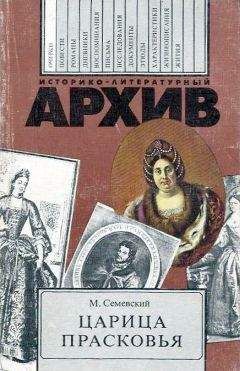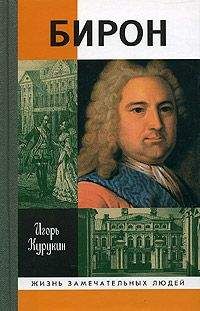— Это такой человек, что без закрытия никому, даже и жене своей, ничего не скажет.
— О чём обращается к жене своей граф Остерман, о том нам и ведать неприлично, — строго заметил ему Неплюев.
— Пожалуйста, оставьте, я ведь знаю, что вы креатура Остермана и со мною были в ссоре, — с раздражением ответил Волынский.
К концу допроса гордость, поддерживавшая до сих пор силы Артемия Петровича, стала ослабевать под влиянием возникшего опасения за будущность своего процесса и невольного ощущения своей беспомощности. С едкою горечью бессилия он закончил свои показания словами:
— Прошу у её императорского величества себе другое назначение, которое готов выполнить с усердием, а в настоящей должности не гожусь.
И потом добавил:
— Писал же я всё от ревности, а теперь вижу в том одно враньё…
С этими словами кончилась его политическая миссия. Кабинет-министр и реформатор умер… остался только Артемий Петрович как человек частный, без значения и политического смысла. Человеку трудно отрешиться от своей мечты, от своей заветной идеи — для этого ему нужно или всеразрушающее время, или неизмеримая доля страдания. И Артемий Петрович много выстрадал в эти последние часы; несмотря на громадное самомнение, он сознал свою политическую немощь, что он один в поле не воин… Дальнейшая судьба его имеет интерес судьбы человека, которого травят, рвут в клочки и, наконец, убивают, натешившись.
Трусливый тон слышится во всех показаниях, данных Волынским на допросах 17 и 18 апреля. В них не было и следа прежней самоуверенности, ни тени гордой речи о своих заслугах; напротив, Артемий Петрович унижается, кланяется, старается заискать расположение, увёртывается, часто повторяется, путается и старается, в то же время, затянуть в своё дело самих следователей, сделать из них как будто своих бывших соучастников. Унижение доходит до того, что он становится на колени и умоляет о милости.
— Делал я по горячности, от злобы и высокоумия, — каялся он и в то же время, отвергая свои прежние показания, говорил: — Беда моя, сам на себя наврал, надеялся на перо, что писать горазд.
Более всего Артемий Петрович старался заискать в Андрее Ивановиче Ушакове, Которого с глубоким принижением спрашивал: «Не прогневал ли чем-нибудь»? Это немудрено. Артемий Петрович знал силу Андрея Ивановича как самого искусного заплечного мастера.
Увёртливость и старание притянуть к ответственности самих следователей, конечно, не могли их на раздражать.
— Всё говоришь плутовски, — резко высказал старший из следователей, генерал Чернышёв, — как и наперёд, по прежним своим делам также не ответствовал и беспамятством отговаривался, но как в плутовстве был изобличён, то и винился.
Эта грубость теперь не раздражала Артемия Петровича и не вызывала с его стороны резкого отпора. Напротив того.
— Не поступай со мной сурово, — молил Волынский, — знаю я, что ты такой же горячий, как и я. Деток имеешь, воздаст Господь детям твоим!
После допроса 18 апреля изменилась система ареста в доме Волынского. По полученному в это число повелению императрицы на имя караульного офицера гвардейского подпоручика Каковинского предписывалось, под угрозою смертной казни, стеснить до крайних пределов свободу Волынского, запрещался доступ к нему не только посторонним, но даже и всем домашним, не исключая и детей; самого арестованного предписывалось запереть в одной комнате, в которой поставить бессменно двух солдат с ружьями, двери в другие половины дома запереть, оконные рамы заколотить, отобрать бумагу, никого посторонних не допускать к нему, за исключением только одного камердинера, с которым, однако же, не дозволять никаких разговоров. Кроме обвиняемого, такой же караул приставлен был к его детям и ко всем домашним людям.
Строгое содержание вызвано было новым оборотом дела. До сих пор все обвинения и допросы по ним касались только оклеветания хитроумных политиков, заключающегося в примечаниях к доношению, и побоях пиите — следовательно, таких преступлений, за которые не могло быть высшего уголовного наказания, но с 18 апреля тактика обвинения приняла более широкие размеры. Началось с того, что всё дело исследования было передано из особой комиссии в тайную канцелярию, на руки Андрея Ивановича, которому придали в помощь тайного советника Неплюева.
Конечно, Андрей Иванович не мог удовлетвориться цветочками, когда его желудок требовал более питательной пищи. Ещё тогда же, тотчас по окончании обыска в доме Волынского, он принялся за допросы советного слуги Василия Кубанца, зная, что с этого поля всегда можно снять какую угодно жатву. На первом допросе, произведённом легко, в виде опыта, Кубанец указал на участие конфидентов Волынского, а в особенности на Хрущова, обращавшегося с доверенным слугою грубо и с пренебрежением. Об этом показании немедленно же было доведено до сведения герцога Бирона, а через два дня состоялось от имени государыни распоряжение насчёт допроса Кубанца о других, сверх известных, преступлениях и противных поступках кабинет-министра и его взяточничестве по службе.
Андрей Иванович вполне обладал искусством пользоваться обстоятельствами и действовать на душу человека именно с той стороны, с какой она была доступна. К Кубанцу он отнёсся иначе, чем к большей части своих клиентов: он не запугивал его с первого же раза угрозами и пытками; напротив того, он ласково доказывал всю невыгоду держаться за бывшего кабинет-министра, которого песенка окончательно спета, и постепенно рисовал награды за показания против бывшего господина. Эта тактика имела полный успех. С 15 апреля начался ряд доносов крещёного татарина, безграмотных, бестолковых, но, тем не менее и именно по этим-то обстоятельствам, особенно важных. Кубанец доносил о ночных собраниях в доме благодетеля, о разных разговорах, об оскорбительных выражениях насчёт императрицы и Бирона, об отношениях господина к фрейлинам Анны Леопольдовны и о его проектах.
Для вящего поощрения Кубанца через несколько дней ему было объявлено от государыни полное прощение, с тем только условием, если им будут высказаны все вины Волынского. Поощрённый этим, Кубанец принялся писать доносы с какою-то лихорадочною деятельностью. Он беспрерывно припоминает новые обстоятельства, рассказывает целые разговоры и отдельные выражения и, наконец, в усердии своём дошёл до того, что объявил готовность рассказать то, о чём только возможно передать лично государыне наедине. Разумеется, от аудиенции с крещёным татарином она уклонилась, но приказала ему написать письмо, запечатать и прислать к ней.
Андрей Иванович очень хорошо понимал, насколько можно верить рассказам татарина, сколько в этих воспоминаниях лжи и клеветы, но ему не правда нужна была, а нужно было придать преступлениям кабинет-министра политический характер.
На основании доносов Кубанца Андрей Иванович начал говорить с Артемием Петровичем суровее, вопросные пункты не ограничиваются, как прежде, «доношением» или побоями пиите, а забираются гораздо далее: спрашивают, с какою целью сочинена родословная дома Волынского, о чём и с каким намерением велись переговоры с фрейлинами Анны Леопольдовны. В конце вопросных пунктов звучит тоже новая струна, грозно указывающая на будущее: «Если по сим пунктам ты именно о всём не покажешь, то с тобою поступлено будет, как с сущим злодеем».
С Артемием Петровичем начинают говорить тем языком, в тоне которого слышится полная безнадёжность на счастливый исход. Да и могло ли быть спасение с того момента, как дело перешло исключительно в руки Андрея Иваныча и когда допросы стали производиться в тайной канцелярии. 23 апреля Артемия Петровича перевезли для заключения в Адмиралтейскую крепость. Тяжело отозвался в нём этот подневольный переезд. Невесело было ему и в своём доме сидеть запертым в одном кабинете, грустные мысли не покидали и там болезненно возбуждённого мозга, но всё-таки этот кабинет с двумя солдатами и вся эта обстановка были для него невыразимо дороги. Жизнью веяло от стен, от мебели, жизнью доносился до его слуха домашний шум, хотя и подавленный. Измученный и нравственно истерзанный, он жадно прислушивался, не отзовётся ли где-нибудь голос его милых детей, и как рад, счастлив он бывал, когда услышит шелест платья старшей дочери, урвавшейся под каким-нибудь предлогом пройти мимо кабинета и обронить ему милое слово.
Описать мучительное чувство, с каким он отрывался от своего дома и переходил в отдельную арестантскую камеру Адмиралтейской крепости, — невозможно. Голые замасленные стены нового помещения, убогая мебель и каменный пол дышали мертвящею форменностью.
Какое значение имело переселение, Артемий Петрович понимал, но это его теперь не пугало. Им овладело отчаяние, какое-то отвращение к жизни, страстное желание как-нибудь скорее с собою покончить. «Но как и где найти средства»? — спрашивал он себя, обводя глазами своё тесное новое помещение. И вот он увидел в углу, в мусорной куче, гвоздь. Не сознавая отчётливо, как и на что пригодится ему этот гвоздь, Артемий Петрович, как кошка, бросился в угол, отыскал гвоздь и спрятал в карман, но и это не удалось. Его порывистое движение обратило на себя внимание стоявшего у двери караульного офицера, и тот тотчас отобрал находку. Душа Артемия Петровича, по собственному его выражению, мутилась.