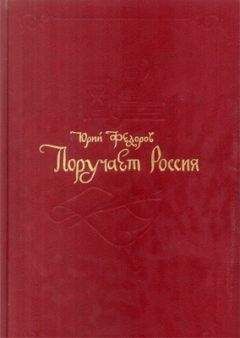Купцы спрашивали: куда именно он прикажет фураж привезти? Петр Андреевич отвечал с неохотой. Тянул, мялся заметно. Но называл все же места поближе к землям силезским. А то и прямо силезские города указывал.
Купцы много тому дивились. Толстой же, не забыв представиться полным титулом и имя назвав, ехал дальше.
Смотрел другие амбары. Зерно в руки брал. На зуб пробовал: не подмочено ли, не проросло ли, сладко ли или хлебной тлею попорчено и прогоркло? Сено тоже рассматривал внимательно: луговые ли травы, а может, с окосов лесных или, того хуже, взяты на болотах? Говорил:
— Болотные травы лошади поедают охотно, но потом пузом маются и силы теряют. Дует их изнутри.
Округляя руки вокруг чрева своего, показывал, как то бывает. Тут же поучал:
— Такой вздувшейся лошади надо брюхо гвоздиком проковырять. Оно и опадет. Однако уточнял: — Но не всегда таким манером пособить можно.
Представлялся опять же всеми титулами и ехал дальше. От поездок тех по городу пошел большой разговор. Даже шум получился. А Петр Андреевич, объездив всех купцов-фуражиров, заперся в доме и носа в город не показывал.
Авраам Павлович Веселовский намекнул ему, что-де не мешало бы вице-канцлеру нанести визит, в связи с тем что Петр Андреевич в Эренберговском замке был и царевича хоть и мельком, но сам зрел в башенном окошке.
— Угу, — на то ответил Толстой, но с места не сдвинулся. И еще день сиднем просидел, не ударив палец о палец.
Тогда-то к нему пришел человек. По виду немец. Сказал почтительно дворне:
— К господину Толстому имею поручение.
Его провели. Когда уходил немец, глазастая дворня приметила: с крыльца сошел он довольный. Знать, отблагодарил его Петр Андреевич хорошо. Старый слуга прошамкал с завистью:
— Бывает же людям счастье.
Доложили Веселовскому. Он прошел к Толстому, но тот и не обмолвился, что был у него гость. Авраам Павлович поговорил о пустяках да с тем и вышел. Недоволен был: что за секреты такие? Толстой же ходил по комнате и губами играл:
— Бум, бум, бум…
На следующее утро неожиданно к дому русского резидента подъехала пышная карета. Авраам Павлович всплеснул руками, узнав в вышедшем из кареты господина вице-канцлера Шенборна.
Веселовский бросился к Петру Андреевичу. Толстой ника кого удивления не высказал. Напротив, взглянув на хлопотавшего растерянно Авраама Павловича, сказал:
— Менувет перед графом сим танцевать нам не следует. Сказаны были те слова тоном строгим.
По весенней грязи, по самому что ни есть бездорожью Меншиков отправился в Москву. Говорили ему:
— Что ты, князь? Повремени. Лошади тонут в грязи. Разливы вокруг…
Но Меншиков не послушался совета. В Москву надо было позарез.
Разговоров разных слишком уж много пошло. Объявились люди в северных лесах, говорившие, что царству-де Петрову конец. В Петербурге предсказывали наводнение на весну, которое город новый смоет, и останется, мол, от него один кукиш, скалой из земли торчащий. Болтали и о царевиче Алексее: заступник-де веры и Петр за то услал его в земли чужие.
Меншиков уверен был: разговоры идут из Москвы. Вот и поехал посмотреть знать московскую. Захватил с собой и Федора Черемного. В поездке Федора к себе не приближал, чтобы неизвестно было, кто таков и зачем едет. Черемной держался в сторонке. Так, на седьмом возу в обозе, под десятой рогожкой, едет смирный человек. Мало ли кого знакомцы посадили. В Москву надо — вот и пристал.
А грязи было подлинно как никогда. Не езда по такой дороге, а мучение одно. Десять верст за день обозом пройдут — и рады. Трети пути не доезжая до Москвы, Меншиков не выдержал, обоз бросил. Не по его нетерпеливой натуре была такая езда.
Пересел на верховую лошадь, двух заводных коней взял и с драгунами ускакал вперед.
Обоз тащился все так же, еле-еле выдираясь из грязи. Топи миновали на пятнадцатые сутки. Вылезли на сухой пригорок. У лошадей глаза кровью налиты от натуги, ноги дрожат. Мужики закричали:
— Переждать надо малость! Скотину замордовали! Остановились. Мужики слезли с телег, захлопотали насчет горячего. Кое-где задымили костры.
Федор Черемной из-под рогожки выбрался, подошел к возчику. Тот мужик, видать, справный, как мог с лошадки грязь обобрал, сбрую поправил, сел и, достав из тряпочки хлеб, ел, отламывая кусочки от краюхи. Ел не жадно. Рассудительно, по-хозяйски. Так, чтобы и вкус почувствовать, и съесть немного.
Черемному то понравилось. Пустой мужик как ест: хватает, хватает побольше куски, а оно и сытности нет, да и хлеб, гляди, кончился.
Присел Черемной рядом с возницей. Мужик от греха тряпочкой прикрыл хлеб. Но Черемной будто и не заметил того. Покряхтел солидно, глазами поводил, кашлянул и из-за пазухи достал скляночку малую. Смирненько так спросил:
— Нет ли луковки?
Как бы невзначай тряхнул скляночкой. В стекле булькнуло. Мужик хотел было сказать: много, дескать, вас, охочих, куски сшибать, — но голос, каким попросил Черемной, мягок был уж слишком. Да и скляночка смущала. Понимал, в такой посудине святую воду не держат. Мужик с сомнением отвернул тряпочку, протянул Федору луковку.
Черемной хороший ножичек из кармана достал и аккуратно луковку на две части разрезал. Помедлил, глядя на дорогу, и без спешки глотнул из склянки. Пострадав лицом, как человек хороший, луковкой с видимым удовольствием закусил.
Мужик для приличия отвернулся. Но Черемной приметил, как по горлу того сладкий комочек прокатился.
Отдышавшись, Федор с поклоном скляночку мужику протянул. Возница башкой замотал: я-де не смею… Но принял скляночку. А Черемной и половину луковки ему подал. Все получилось как у обстоятельных людей.
В это время закричали:
— Поднимайся, поднимайся! Поехали!
Мужики начали затаптывать костры, прятать котелки по телегам. Но спешки особой никто не проявлял. От телеги к телеге побежали солдаты — кому пинка в зад дать, кого по шее ударить. Известное дело: без таски такой мужику торопиться даже бывает скучно. Наконец обоз тронулся. Дорога побежала под уклон, и лошадка пошла спокойно. Шею не тянула, надсаживаясь.
Черемной сел рядом с возницей, спустил ноги с телеги и лаптями помахивал вольно.
Поговорили о том о сем. Посетовали на жизнь. А так как в дороге русский человек рассказывает все больше о необычном, то и обратились к непонятному.
Черемной вспомнил о кукише, что, говорили, вместо Петербурга окажется, как пройдет наводнение. Сказал и то, что некоторые люди на Васильевском острове уже и теперь угадывают небольшое трясение земли.
Приложились к скляночке.
Возница, не желая остаться в долгу при разговоре опасном, сказал нечто совсем уж странное. В Москву с обозами ходил он часто. И вот в последний раз, как в Москве был, стал свидетелем — тут мужик перекрестился — не иначе как колдовства.
Случилось невиданное.
У церкви Зачатия Анны в Углу, что в Зарядье, объявился юрод. Зарядье — место с испокон веку известно как темное. Народ здесь пестрый обитает, колодочники, шапочники, кошелевщики, пуговичники, картузники. Всего пожитков у такого человека — в мешок собрал да и снялся. И ежели кто в Москве зашалит, а власти его искать начнут, тот бежит в Зарядье. Там и сам черт не сыщет.
Так вот, утром вышел народ, а у церкви воронья черным-черно. И на земле сидят вороны, и на крестах, на ограде и по всем местам. Крик, хлопанье крыльев, а у паперти стоит юрод и воронью бросает сырое мясо с кровью. Рвет прямо у себя из-под живота и швыряет горстями. Потом занятие то оставил и руками, как крыльями, замахал. Вороны поднялись разом, а юрод и крикни: «Быть худу!»
На что народ в Зарядье крученый, а обомлел. Так и стояли все, опустив руки.
Случился здесь солдат. Солдату, известно, страх неведом — он и бросился к юроду. Тот исчез вдруг. И опять народ сильно удивился. Дальше — больше. Стали думать. И оказалось, что лица никто не приметил, а некоторые даже говорили, будто юрод без лица был вовсе. Вроде и не пустое место на плечах у него видели, а примеришься — лица нет явно. Народ оробел. Бабы закричали. А мужики — как то бывает — с неделю после того работу никакую не делали, а все больше шумели по кружалам. Изумление получилось.
С полверсты после такого разговора ехали молча. Что скажешь-то? Возница все же не удержался и рассказал еще более страшное:
— У той церкви Зачатия Анны в Углу позже до семи раз кричали сверху: «Быть худу!» Кричали и другое: «Молодой царь сменит старого, и голова у него светлая!»
После того и Черемной, и возница раскрыть рты уже не решились. И так наговорено было достаточно. Ежели кто услышит, то непременно побежит за ярыжкой. А что затем следует — неизвестно.
Через малое время Федор Черемной тихо-тихо под рогожу свою залез и до Москвы почти что и не вылезал. А ежели и выпростается из-под рогожи, то, как заяц, стреканет в придорожные кусты и назад тем же ходом.