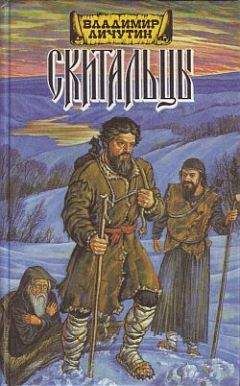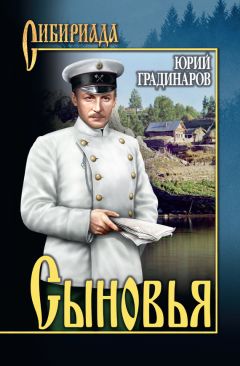– Слыхал, дом ставить норовишь? У меня брат-то мастеровой, Калина-то Богошков. Он ведь с Клавдей, дядей своим, баские дома рубил, отличные от протчих. А нынь свободен он, свободен. – Гришаня рюмку осушил, у него и голос родился, с Петрой разговаривал, но с Евстольи глаз не спускал: а ничего будет баба, думал, что в плечах, что в заднице. Еще настроит рекрутов, и глаза вроде не злы.
– Ну, дак берешь?
– Сговоримся, почто нет...
– Спасибо за хлеб-соль. Бог напитал, да никто не видал, – пошел к порогу. – Слышь, Петра, проводи-ко.
Вышли в сени, двери затворили.
– Петра Афанасьич, я к тебе за девкой пришел. Отдай Евстолью за Калину моего.
– А что у меня большуха-то скажет, переговорить надо...
Пошли обратно в избу.
– Слышь, Августа Антиповна, отдай девку-то свою за брата моего Калину.
– Да котору? – всплеснула руками Августа. – Ты садись, посиди-ко, Григорей Иванович, батюшко родимый, у меня вроде ни одной девки свободной нету. Манька продана, не сегодня-завтра опорознится, Тайка еще мала-малехонька, разве Евстолью? Дак мы ее не гоним, пускай погуляет в девушках, – укатилась за ситцевую занавеску, там мисками гремела, снаряжала стол и в голос выла.
– Ты поило, Антиповна, ревешь? – спросил Гришаня. – Ведь это век на веке так делают, не у вас одних. Кабы ты отдавала за табашника или мотыгу какого, а то наш Калина и вина-то не пьет, и табаку не курит, и сам не старик, и хозяйство полным-полно, а уж лучше кормщика по всему Зимнему берегу не сыщешь ни в Койде, ни в Зимней Золотице. Уж на што люди близ моря живут, а завсе к нашему Калине на поклон ходят, просят, сплавай, мол, своди наших мужиков за Матку.
А хозяйка будто и не слыхала Гришаню, причитала: «Только ты одна у меня на свете ох-ти, ох-ти, как тошнехонько мне».
– Ну, хватит реветь-то, – вдруг сурово окрикнул Петра. – Мужика-то не похулим, Калина нашей девки стоит.
Августа сразу затихла, покорно откликнулась:
– Как хошь, отдавай...
А Евстолью никто не спросил: спряталась девка на печи в темный закуток, ни жива ни мертва, и вроде бы за старого неохота идти, и дома оставаться – нет большей казни.
Еще посидел Гришаня, уже нахороше расстались, ушел довольнехонек, что Калину не подвел. Тут и завыла-запричитала Евстолья, с печи спустилась, в переднем углу качается да ревет: «Ты не отдавай меня, татушка, ты не посылай меня, любезный батюшка, за старого, за нелюбимого...»
А средняя сестра рядом сидит за прялицей и нехорошо подговаривает:
– Реви-реви пуще. Ей нынче и старый нехорош. В экий-то дом дивья идти, хозяйкой будешь, а тут вечно в подневольницах у скупого батюшки.
– Загунь, чертово семя, – прикрикнул Петра. – Мужик не лупит, дак у меня рука хорошо подымется.
– Вот-вот, всегда так, – скривилась Манька. – И слова-то доброго не услышишь.
Тайка пожалела сестру, затосковала, самой думно стало. И завыли все разом, умылись слезами.
А через неделю и рукобитье справили, Евстолья мужних родственников подарками обнесла; сама одета богато: в бархатный штоф, да атласную душегрею, да шелковый сарафан, да в белую рубаху с длинными рукавами, а на голове повязка с занавесью из бисера. Потом встала посреди избы, и навстречу из-за стола жених вышел, чтобы прилюдно целовать. Борода у Калины коротко подбита, волосы на голове на две стороны пивом с солью смазаны, рубаха на плечах кумачовая, поверх кафтан из синего покупного сукна, на ногах сапоги черные с подковами, и кисти цветного кушака по коленям бьют. Взял Евстолью за косу, другою рукой плат на лице поднял, глянул в глаза – в них радость. Поцеловал троекратно, а девки-подруги на всю избу плачут, заливаются, как заведено: «Пристыдил да прибесчестил чужой сын отеческий девицу красную при компании, при собрании людей добрых».
А как в церковь ехать, пришли дружки жениховы, принесли башмаки подвенечные да всякие сладости, наказали невесте: «Девица, душа красная, зарученный наш князь приказал тебе мыться белешенько, ходить хорошенько, гордость и спесь подальше спрячь, девьи поступки дома оставляй, низки поклоны с собой припасай. У нашего князя горница нова, в новой горнице есть кровать тесова, на кровати тесовой есть перина пухова, а над периной пуховой есть спичка дубова, на спичке дубовой висит плетка шелкова о трех долгих концах. Первый конец долог, второй долог, третий до вашего брата очень ловок – где хвостнет, тут и кровь брызнет».
И справили свадьбу, и все бы ладом, все бы хорошо; но только из церкви после венчанья вышли, и подружки на паперти распущенные волосы в две косы заплели, потом и по телегам расселись, а лошади ну фыркать, колокольцами-шаркунцами звенят трусливо, зубами скалят, из оглобель рвутся. Донька-то сбоку стоял, в кармане у него от медвежьей шкуры кусок спрятан; кобыла чует медвежий запах, ее и с места не сдвинуть.
В толпе сразу заахали, запричитали – ой, к беде, ой, к несчастью, колдун вежливый, охранитель свадебный, с ног сбился, людей прочь от лошадей гонит, а на Доньку ему и грех подумать. Парень в душе зло веселился, по толпе шальными глазами бегал, отца стороной обходил и не утерпел, в его лицо глянул – и поразился: мертвецки бледное оно, с испугом в очах, а мачеха Евстолья рядом белее льняной скатерти.
Смутился Донька, пожалел отца, ушел в толпу, оттуда берегом за деревню убежал, упал в копну, заплакал. Искали его свадебщики, дядя Гришаня аукал: не нашли. Заснул под копной Донька и увидел во сне мать свою. Будто он с Яшкой на челне плывет, а мамка с берега вслед кричит, как птица гагара: «Донюшка, воротись, Богом прошу».
Еще на прошлой масленой вошли Чикины в новый дом в два жила да с огромным двором, а по всему переду красные окна со стеклянными окончинами и с резными узорчатыми ставенками. Перед тем как войти-поселиться, сходил Петра Афанасьич в старую избу, раскланялся во все четыре угла: «Хозяйнушко-господин, пойдем в новый дом, на богатый двор, на житье-бытье, на богачество».
Потом в новую избу образ внесли, следом черного петуха пустили с белым помороженным гребнем, бабкиного любимца, стали глядеть, куда побежит. Потоптался петух у порога, надулся, облегчился жидким и затопал когтистыми лапами в передний угол: и сразу все вздохнули, ну, слава Богу, доброе житье будет...
И вот год минул с той поры, нынче снова мясопустная неделя, а завтра начнется беспорточная, масленая, когда, ой, не грех последнюю юбочку заложить, а маслену проводить.
Сидит Тайка у красного окна и белую косу туго плетет. Встала бы нынче из могилы баба Васеня, не узнала бы девку: куда-то и рахитичный животик подевался, и титешки налились упруго, и шея из низкого ворота плавно выросла, а глаза будто два лесных фонаря – за березовой весенней зеленью легкий хмельной свет. Ой, девка, что тебя томит, почему оставила глаза на крохотных желтых стеколках, что едва протаяли от ледяной навеси, а в углах окна еще прочно живет колкая заморозь. Глядит девка на улицу, уж ничего-то за спиною не слышит, щемит у нее глаза от голубых крупитчатых снегов: солнце половодьем залило улицу, и кажется, что не сегодня-завтра весна; столько на воле тепла, так расшалились воробьи на коричневой от навоза дороге, не пугаясь лошадиных копыт. Отчего-то хмельно Тайке, и лишь сегодня утром на переносье проступили три рыжие веснушки. Помылась девка теплой творожной сывороткой и еще белее стала, и только на тугих щеках проступил такой прозрачный, такой легкий румянец, словно Тайку неожиданно кто обворожил и покинул в стыдливой растерянности.
Напротив Петриного дома узкая дорога в глубоком овраге меж отвесных сугробов, и только дальний краешек ее виден из окна, притрушенный легкой сенной наушной. А за дорогой большой заулок, желтый от свежих опилок; рядом изба Егорки Немушки. Видно Тайке из окна, как на стерлюги – на высокие деревянные скамейки – закатывают мужики обледенелые комлистые бревна, и под старенькими армяками до предела напрягаются сутулые спины. Потом мужики отходят, хлопают верхоньками, машут руками, о чем-то спорят; и маленький в своем постоянном овчинном треухе и коричневой понитке Егорко Немушко, главный корабельный мастер, и его старинный сотоварищ по ремеслу Гриша Деуля, ноги которого не держат огромного мужичьего тела и кривы ныне, как кузнечные клещи. Егорко достает кожаный мешочек, набивает крохотную трубочку из верескового корня и сладко дымит, и Тайке видно, как жмурится его щербатое рыжее лицо, на котором, кажется, только и есть, что утиный нос и клочковатые брови. Третий их сотоварищ, Донька Богошков, лезет на стерлюги, топчется на бревнах, железные скобы загоняет обухом топора наотмашь, потом сбивает шерстяной колпак с веселой голубой кисточкой и что-то кричит, поворачивая лицо к Петриному дому, и Тайке чудится, что Донька видит ее и кричит нарочно, что-нибудь задиристо-нахальное. Он ведь такой, он ведь остер на язык и прилипчив, как смола: говорят, что и Калина-то в молодости был такой, да вот море дало укорот его веселому нраву. Нынче если и скажет что, так в час по чайной ложке.