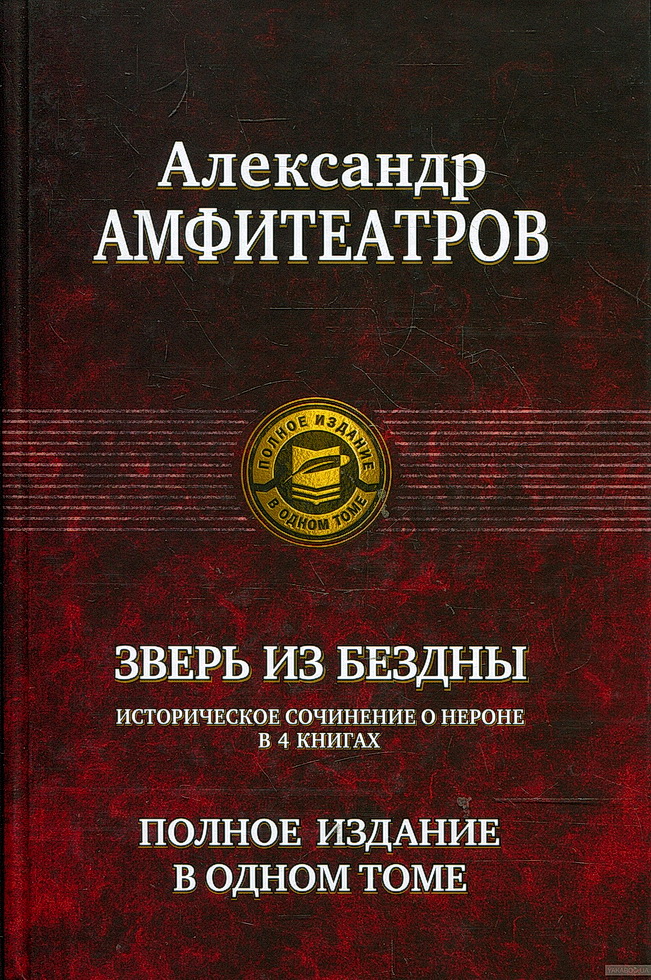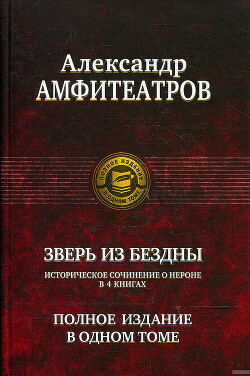— не документ.
Уже неоднократно была высказываема мысль о сходстве между Тацитом и Шекспиром. И, конечно, драматические хроники последнего — очень близкая родня Тацитовой летописи, хотя я не знаю, имел ли Шекспир понятие о Таците, и не помню, чтобы какой-либо Тацитов рассказ отразился где либо в Шекспировых пьесах. Но их сближает общий психологический тип творчества и аристократический дух, которым в них диктуется история. Тот же олигархический патриотизм, то же глубокое презрение к народным массам, которые представляются обоим авторам не иначе, как внутренним врагом — презренным, когда он спит, и ненавистным, когда он бодрствует. В этом отношении особенно выразительны трагедии Шекспира на сюжеты из римской истории. В «Юлии Цезаре» веяние публицистической мысли заметно более, чем в какой-либо другой трагедии Шекспира, за исключением разве «Короля Лира». Многие считают «Юлия Цезаря» — по ясным симпатиям Шекспира к Бруту и Кассию — пьесой «революционной». Но, если бы даже и так, если бы даже и в самом деле Шекспир апофеозировал революцию, то из всей пьесы слишком ясно следует, как ограничено, насколько в полном и тесном соответствии своего, еще полного феодальных преданий, века понимал он сам политическую свободу, изображая ее плодом «господского» восстания ради вольностей и привилегий немногих односословных и одинаково состоятельных граждан.
Наши современные понятия о политической свободе гораздо ближе к демократическим идеалам Юлия Цезаря, чем к той олигархической конституции, за права которой убили Цезаря Брут и Кассий и сами потом пали при Филиппах. Мы свыклись с вековым предрассудком о «вольнолюбивом» Бруте, и многим ушам даже диковато, на первое впечатление, услышать, что если кто был по-настоящему «вольнолюбив», то не Брут, аристократ — убийца, защитник узких сословных интересов, а умерщвленный им народный вождь Юлий Цезарь. Однако, это так, и уже древность понимала это хорошо. Когда диархический принципат Августа утвердился и принял деспотический характер, изменив народным силам, которые его создали, имя Юлия Цезаря диктатора очутилось в немилости у династии, от него происшедшей. И, наоборот, раздавленная Юлием, аристократическая тенденция Помпея воскресли при дворе и в знати, пользуясь откровенными симпатиями большого света и громкими хвалами в покровительствуемой литературе. Имена Брута и Кассия были гонимы, но лишь как символы цареубийства, а политический кодекс их был в уважении, и старая, «дворянская» оппозиция, политическая партия крупных земле- и рабовладельцев, хранила их портреты, провозглашала за них тосты даже сто и полтораста лет по их кончине. Шекспир, пятнадцать веков спустя, как бы чокается бокалом своим с Петом Тразеей и Гельвидием Приском, которые праздновали пирами дни рождения Брута и Кассия, украшая себя в эти праздники венками, и с тем Гаем Кассием, у которого Тигеллинов обыск нашел в божнице статуэтку его знаменитого предка с надписью: «Главе партии»... Мы видели, какой это был человек: типический «зубр», сословник с головы до ног, умный, холодный и безжалостный враг демократии, истинный убийца рабов Педания Секунда, Муравьев Путеоланском) мятежа... Народ в «Юлии Цезаре» — наивная масса. Ею грубо пользуются обе стороны, до нее обеим сторонам нет заботы, вне вербовки из нее своих военных кадров и выжимания фуража и денег. «Революционеры» трагедии ругают эту массу едва ли не с большим отвращением и презрением, чем единовластники. «Пни, камни вы, бесчувственные твари!» — кричат народу Флавий и Марулл, пропагандисты партии Помпея, приглашая толпу почтить его память, — то-есть память жесточайшего врага прав этой самой толпы. Для Кассия народ — «подлая сволочь». Брут, правда, восклицает, что
Готов скорее
Перечеканить сердце на монету
И перелить всю кровь мою на драхмы,
Чем вырывать из закорузлых рук
Поселянина жалкий заработок
Но, во-первых, то — великий честностью, бескорыстнейший, гуманный Брут, исключительный идеалист, одинокий в собственной своей партии. А, во-вторых, несколькими сценами ниже, тот же Брут объясняет свою решимость дать генеральное сражение при Филиппах, утомительно идя навстречу неприятелю, только потому, что — увы! —
Все жители отсюда до Филиппи
Лишь потому на нашей стороне,
Что нас боятся; против нас они
Раздражены за тяжкие поборы —
И, проходя по этим областям,
Свои ряды пополнит неприятель.
В знаменитой сцене на форуме, у праха Цезаря, народ изменчив, как ветер, и глуп, и подл. Народу в трагедии или нагло льстят, или нагло его ругают. Отношение к народу Шекспира — отношение кнехта из свиты знатного лорда к мужику-землепашцу: более лордское, чем у самого лорда, если лорд был похож на ласкового Брута. Это, впрочем, не в одном «Юлии Цезаре»: то же самое в «Кориолане», теми же красками изображен Джек Кад в «Генрихе VI».
Итак мы — в пьесе отнюдь не демократической, в пьесе без народа, в пьесе, так сказать, баронского вопроса, и, если революции, то баронской же, — за дворянское самоуправление против властолюбца-единовластника. Вот тут симпатии Шекспира, действительно, на стороне «баронов»; они в военных сценах и изображены у него с теми же нравами и похвальбами, как феодальные герои Алой и Белой Розы, Йорки и Ланкастеры. Цезарь его очернен почти резкой карикатурой, которой черты он позаимствовал у Плутарха, но промазал их поглубже, — с видимой тенденцией создать в этом, до смешного олимпийском, человеке-боге антипатичный контраст с благородным гражданским глубокомыслием Брута, ярым партийным пылом Кассия. Тацит такого Цезаря не написал бы. Хотя он величайший мастер принизить антипатичного ему исторического деятеля и опошлить его до презренности (Август и, в особенности, Клавдий), но достигает этого другими средствами. Тацит неулыбчив, юмор у него редкий гость, и если приходит, то исключительно в броне сарказма и с целью партийного боя оружием сатиры, величавой и несколько тяжеловесной. В этом , его категорическое отличие от Шекспира. В Нероне Тацита есть черты жалкие, презренные, низкие, но великий писатель оставил без внимания смешные черты последнего Юлия-Клавдия, которых, однако, много сохранили, в своих анекдотических выписках, Светоний, Дион Кассий и Лже-Лукиан, автор памфлета на прорытие Коринфского перешейка... Тацит, будто автор мелодрамы, рисующий условного злодея, боится, не убил бы смех впечатления, не перестал бы Нерон быть страшным. Поэтому даже многочисленные остроты Нерона, им сохраненные, раздаются всегда в такой мрачной обстановке, чтобы адский эффект их подрал читателя морозом по коже.
В книжке Гастона Буассье о Таците (1903), полной самого восторженного поклонения и безусловного доверия к римскому историку, очень любопытна глава о публицистическом использовании Тацитовой летописи в XVIII веке и, в особенности, в эпоху Великой французской революции. Из образов Тацита, как двести лет назад торжествующий просвещенный абсолютизм в Италии, как теперь торжествующее третье сословие во Франции, сделали символы крайней порочности и злобы