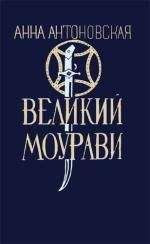И вот тогда начались третьи всекартлийские переговоры.
Первым говорил Трифилий. Трудно было узнать в нем одержимого монаха, с обнаженной шашкой носившегося по Марткобской равнине. Мягким движением поправив на тяжелой рясе параманд, он смиренно сокрушался:
— Обсуждение с Московией медлительно, яко с клюкой тащиться. Царь Михаил и патриарх Филарет сочувствуют верному церкви Луарсабу. Но уже печатью скреплена их торговая дружба с шахом Аббасом. В Исфахан пошли караваны с мехами и другими товарами.
За купцами не преминут последовать послы, которые от имени царя Русии будут просить шаха Аббаса… Князья не дослушали, ропот прошел по палате:
— Доколе ждать? Караван может заблудиться в пустыне!
— Царя! Владыка, дай нам достойного царя!
— Богоравного!
Католикос вытянул жезл и в наступившей тишине потребовал клятвы подчиниться его выбору.
Князья осенили себя крестным знамением и сложили руки на груди в знак покорности. Бесстрастные глаза католикоса столкнулись с бесстрастными глазами Моурави. Владыка встал и сурово объявил царем абхазов, картвелов, ранов, кахов и сомехов, шаханша и ширванша, — богом посланным, юного Кайхосро, внука Мухран-батони.
Только теперь поняли князья, что Георгий Саакадзе обвел их вокруг своих жестких усов. «Шакал в шкуре барса! — свирепствовали владетели. — Кого он хочет обмануть своим спокойным лицом? Мухран-батони! Друг Саакадзе! Недаром они уже дважды за весну пировали у Русудан!..» Но разве из страха иметь царем Саакадзе они сами не обещали присягнуть хотя бы черту?.. Кстати о черте: уж не лучше ли получить в цари Георгия Саакадзе? Легче сбросить!.. Впрочем, можно еще поспорить!
— А почему не избрать царевича Вахтанга? — заговорил Цицишвили. — А чем плох царевич Арчил? Не он ли прославлен как первый охотник в грузинских землях? И разве мало царевичей Багратидов?
— Не мало, но желающих быть пешкой в игре Саакадзе в «сто забот» — ни одного, — шепнул старик Магаладзе своему соседу Квели Церетели.
«Безмозглый козел! — опасливо подумал Церетели. — Зарыл у себя в огороде чалму и притворяется верным сыном богородицы. Еще может испортить мне дружбу с Моурави».
Хмуро выслушал католикос предложение Цицишвили и повысил голос:
— А чем царевичи прославили себя в дни ниспосланных господом за грехи наши испытаний? Одни заперлись в Метехи, другие в неприступных замках, а третьи следили за ветром — куда он подует.
— Владыка, Мухран-батони даже не светлейшие! — почти простонал светлейший Липарит младший.
Старший упорно молчал, не в силах разобраться в своих чувствах.
— А где об этом сказано? — Трифилий добродушно прищурил глаза. — В древних гуджари церковь узрела другое! Преподобный отец Евстафий, воспомни Фому Неверующего и допусти князей перстами коснуться пергамента, донесшего слава творцу — до нас правду веков.
Отец Евстафий, благоговейно изгибаясь, вынес на середину палаты запыленный свиток со множеством печатей, свисающих на шелковых шнурах. Служки бесшумно поставили перед Евстафием аналой, и он молитвенно возложил на него свиток. Прикрыв ладонью рот, Евстафий глухо откашлялся и медленно начал:
— «Да прославится сущий, истинный, единый бог отец, от которого всё. Да благословится бог — первоначальное слово, премудрость, им же вся быша. Да воспевается божественный дух, в нем же всяческая…»
Князья напряженно слушали, стараясь вникнуть в смысл изрекаемого монахом текста.
— «…Подобно тому, как три человека имеют три лица и одно естество, которое походит только на самого себя и больше ни на что другое… Святая же троица есть равночастная — то есть три лица имеют одну равную часть; ни начала, ни времени, ни конца не имеют, ибо…»
Палавандишвили почувствовал нервное подергивание колена, точь-в-точь как во время проповедей в кафедральном соборе…
— «…одно от другого ни в чем не отличимо, только отец рождает, сын же рождается, а святой дух исходит! Отец — нерождаемый, поелику не родился от кого-либо, как и ум человеческий, ибо оный ниотколе не рождается; а сын и слово рождаемы, поелику рождены от отца, как и слово человеческое рождено от ума; а святой дух ни рождаем, ни нерождаем, ибо если бы был рождаем, то он был бы сыном; а если бы был нерождаем, то был бы отцом…»
Трифилий благодушно оглядывал князей, они незаметно переминались с ноги на ногу, тщетно стараясь скрыть зевоту… А Евстафий продолжал раскатывать бесконечный свиток:
— «…Искуситель вознамерился истребить имя царя в земле Иверской. Но бога, в троице почитаемого, мы, грешные есьмы, его милосердием держимся…»
Цицишвили насупился, он начинал задыхаться от приторной слюны: «Что мы — телята, из кож которых выделывается пергамент для подобных свитков?! Куда, в какой запутанный лес тащит нас на райском аркане коварный монах?»
Поглаживая клинообразную бороду, тбилели едва слышно спросил: «Может, преподобный Феодосий сегодня разделит со мной скромную трапезу?». А Евстафий все разматывал и разматывал свиток; слова его падали, как дождевые капли на камень:
— «…заступничеством и молитвою пречистой и преславной богородицы приснодевы Марии движемся и пребываем доныне промежду тремя львиными пастями…»
Мераб Магаладзе прикинул глазами свиток: слава троице — будто не больше трех аршин осталось! Но пусть хоть еще три дня хрипит монах, три князя Магаладзе, отец и два сына, благоговейно будут слушать. Не следует забывать — их владение не более чем в трех агаджа от Носте.
Вдруг князья насторожились. Евстафий повысил голос:
— «…с одной стороны Леки скверные, с другой стороны Перс, а с третьей Турок. Но бог наш, в троице воспеваемый и серафимами славимый, взирая на благочестивый и православный род Иверский, направил мысли премудрого главы церкви на ветвь царей грузинских, ведущих линию свою от воссиявшего великого Израиля. Во мраке времен и веков предки князей доблестных Мухран-батони, защищая мечом и щитом своим землю Иверскую, вели великую битву с хосроями и сапарами, Киром и Надиром, Лукуллом и Помпеем…»
«Шадиман, спаси нас!» — хотел выкрикнуть Церетели и выкрикнул:
— Спаси нас, владыка!
— Спаси от бесцарствия! — торопливо подхватил Тамаз Магаладзе.
— Хвала тебе, католикос! — шумно подхватил Зураб.
— От хвалы католикос живых хоронить начал… — шепнул Липарит князю Газнели.
Но старик, сдвинув густые, словно посеребренные брови, негодующе отмахнулся:
— Святой отец, прими мою сыновнюю покорность!
Тихо открылись двери. Послушники внесли зажженные светильники. На темных ликах ангелов заиграли блики. У стены продолжали неподвижно стоять церковные азнауры.
Вперед выступил Цицишвили, он заверял честью меча своего, что князья всегда верны клятве, но юный Кайхосро не искушен в делах царства. Он не в силах укрепить размытые кровавым ливнем стены замков — столпов Картли, не в силах воплотить в жизнь чаяния князей. Кайхосро благороден, но слишком юн.
— Юн? — удивился Моурави. — А разве Давид Строитель не взошел на престол шестнадцати лет? И разве при нем не укрепился костяк царства? А разве тяжелое бремя венца не легло на нежные плечи юной Тамар? И не она ли довела до ослепительного блеска Грузию? А русийский царь, ныне царствующий, благословенный Михаил, шестнадцати лет возведен благоразумными боярами на высокий престол Русии!.. Что?.. За него правит патриарх Филарет милостивый? Но и Картли не обеднела разумными мужами.
Князья тревожно посмотрели на католикоса, на властное лицо Саакадзе… Кто из двух будет Филаретом?
Скрытое недовольство возмутило Шалву Ксанского:
— Разве мы не поклялись подчиниться воле владыки?
Католикос властно стукнул жезлом:
— Великое и тяжелое дело лежит на вас. Из любви к Христу поразмыслите до восхода небесного светила обо всем здесь сказанном. Да осенит вас разумною мыслью творец. Вы — поборники царства, и за вами — решающее слово.
Осенив крестным знамением палату, католикос вышел. За ним почтительно последовал Саакадзе.
В белой квадратной башне Метехи, после короткого отдыха и торопливой еды, собрались князья. Они безучастным взором скользили по царской затейливой утвари, сверкающей в глубине ниш, не чувствовали под ногами шелковистого ковра, не слышали шума Куры, бьющейся под скалой.
Кроме Газнели и Шалвы Ксанского, все опасались воцарения Мухран-батони. Друзья Саакадзе — страшное дело! Гнев и уныние охватили владетелей. Хмурился и Зураб: род Эристави не менее прославлен, но он, Зураб, никогда не пойдет против Саакадзе. Да и неразумно. Моурави принял решение — значит, не отступит. И католикос ради престижа своего не изменит задуманное. Зачем же быть смешным?
Зураб резко прервал князей:
— С кем спорить хотите, доблестные? Саакадзе крикнет: «Э-хэ, грузины!», и полчища плебеев схватят оружие и ринутся на ваши замки. Католикос крикнет! «Церковь в опасности!», и монахи, подобрав рясы, начнут избивать вас крестами.