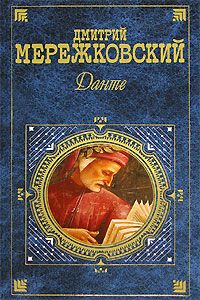Наконец желанное окошечко открылось, и, как вчера, из него высунулось лукавое, беспощадно-веселое и розовое лицо молодой служанки.
– Ну, как наши дела, мессере Альберт? Много ли поработали? Покажите пряжу, и говорю вам, что должна видеть ее и смерить точно, чтобы знать, какой обед принести.
Тогда рыцарь не выдержал, стал кричать, топать ногами, требовать немедленного освобождения, грозить, осыпать госпожу и служанку отборными ругательствами. Наученная Дианорой, служанка ответила ему спокойно:
– Напрасно изволите гневаться, мессере. Я тут ни при чем: только исполняю волю госпожи. Мой совет – успокойтесь, будьте благоразумнее. Перемелется – мука выйдет. Злоба в беде не помогает. Лучше покоритесь. Госпожа моя желает знать, какое намерение привело вас к ней в замок, так как она вполне уверена, что все это случилось неспроста. Послушайте, рыцарь, вы должны как можно скорее открыть тайну, а кроме того, для вашего собственного блага, советую вам заняться пряжей. Не бойтесь, это дело немудреное, и ежели мы, глупые женщины, справляемся с ним, то вам и подавно покажется оно легким. Помните же, Альберт, решение Дианоры неумолимо. Вы из этой башни не выйдете и не получите на обед ничего, кроме воды и хлеба, пока не назовете ваших сообщников и не сядете за прялку. Не упорствуйте же, принимайтесь-ка за работу скорее: сегодня к полудню я снова наведаюсь к вам и, ежели вы довольно напрядете, принесу превкусный обед.
И Барбара – так звали служанку – захлопнула окошечко смеясь.
В это время Дианора велела тайно захватить слуг и лошадей мессера Альберта, содержать их в плену в полной сохранности, так, чтобы люди его не испытывали никаких других лишений, кроме лишения свободы, и распространила слух, что рыцарь вернулся к себе домой в Венгрию.
Дни проходили за днями, и так как Альберт все еще не садился за прялку, которая одна могла избавить его от невольного поста, то ему приходилось довольствоваться черствым хлебом и водою. Голод почти все время терзал его внутренности, ибо он получал пропитания не более, чем нужно было для того, чтобы не умереть от истощения. Теперь несчастный уже не помышлял о самоубийстве, о потере имущества, о стыде, о любви: все это казалось ему далеким и неважным: с гораздо большим волнением мечтал он о жирных каплунах, об огромных паштетах из дичи с поджаренной хрустящей коркой, о прохладных, душистых винах. И как нарочно, именно в это мгновение, когда слюнки текли у него от этих мечтаний и, расширяя ноздри, он вдыхал лакомый запах воображаемых блюд, – прялка была тут как тут, так и металась ему в глаза, так и лезла, как будто подсмеивалась над ним, кивала своим длинным дурацким шестом, обмотанным паклей.
Голодный рыцарь кидался на нее с яростью, чтобы уничтожить, но всякий раз что-то удерживало его, он останавливался, сжав кулаки, подолгу смотрел на ту, которая каждое мгновение согласна была сделаться его кормилицей, и не то с отвращением, не то с любопытством, брезгливо, тихонько трогал веретено. Потом, тяжело вздыхая, отходил в другой угол тюрьмы, подальше от соблазна.
Однажды, в оцепенении от голода, почти не думая о том, что делает, он подошел к прялке, сел и взял в руки веретено. Детство Альберт провел в деревне, нередко случалось ему наблюдать, как поселянки прядут свою грубую серую пряжу, и он учился у них играя, как это делают переимчивые дети. Теперь бедный рыцарь вспомнил старые уроки, и потихоньку, неумелыми пальцами, стал сучить нитку и наматывать на веретено. Она выходила у него пресмешною – в одном месте слишком толстой, в другом слишком тонкой, – но занятие это показалось ему легким и довольно забавным, ничуть не хуже других человеческих дел. По крайней мере, труд избавлял его от нестерпимой скуки, которую он испытывал, проводя целые дни в праздности. Мало-помалу рыцарь совсем увлекся пряжей, забыл и горе и голод, не слышал, как пролетали часы, и только тогда, когда предательское окошечко стукнуло и в нем появилось ненавистное насмешливое лицо Барбары, он отскочил от прялки, ужаленный стыдом, покраснев до ушей, как школьник, застигнутый за шалостью. Но плутовка ничего не сказала, не заметила, или, пожалев беднягу, притворилась, что не замечает.
Еще несколько дней крепился он, убеждая себя, что прядет только так, для собственного развлечения, от скуки, что никто никогда об этом не узнает, и весьма тщательно скрывал наработанную пряжу в постели, под изголовьем. Наконец, однажды, когда волчий голод сжимал ему внутренности и миражи пирогов с дичью обессилили его мужество, он сунул в окно всю наработанную пряжу, отвернувшись, не подымая глаз, желая провалиться сквозь землю. Барбара приняла нитки как ни в чем не бывало и серьезно похвалила его, как будто это было дело обычное, свойственное благородным рыцарям. Тогда, чтобы кончить сразу, он тут же, запинаясь и кусая губы, пробормотал свою исповедь и, пока она внимательно, с едва уловимою усмешкой женского лукавства, рассматривала пряжу, как бы оценивая добротность ниток, объяснил ей все, как с согласия королевы Беатриче он, Альберт, и его друг, польский рыцарь Владислав, побились об заклад с бароном Ульрихом, что одному из них в течение двух месяцев удастся склонить добродетельную Дианору к неверности. Служанка передала это признание госпоже, и в тот же вечер принесла отощавшему рыцарю вкусный ужин, питательный, но легкий, заботливо предупредив, что чересчур наедаться после долгого голода нездорово.
С тех пошло все как по маслу. Каждое утро усаживался рыцарь за прялку и работал весь день усердно, не стыдился и не отскакивал от нее, когда Барбара неожиданно открывала окошечко и выглядывала из него. Пленника щедро вознаграждали за долгий пост. Никогда еще не едал он так много и сладко. Из благодетельного окошечка, как из рога изобилия, сыпались дары Цереры, Вакха и Помоны[4] – плоды, пирожное, паштеты, рыба, дичь, мясо, вино – одно вкуснее другого. Скоро он отъелся, расцвел, повеселел и, сидя за прялкой, стал напевать беззаботную песенку, как это делают сельские женщины. С хорошенькой тюремщицей беседовал он дружелюбно, даже слегка приударял за ней. Барбара была этим, кажется, довольна и строила ему глазки. Если молвить правду, то Альберт гораздо менее скучал, чем в иных блестящих забавах королевского двора, и так вошел во вкус простодушной, невинной работы, как будто отроду ничего иного не делал. Мало-помалу достиг он в прядильном искусстве изрядного мастерства, и нитки выходили у него почти совсем ровными, так что, пожалуй, и добрая сельская пряха не постыдилась бы признать его работу своею.
В это время пан Владислав беспокоился о долгом отсутствии друга: так как срок, назначенный для его пребывания в замке барона Ульриха, миновал, а рыцарь не возвращался и не было о нем ни слуху, ни духу, то Владислав решил, более не мешкая, отправиться в Богемию, чтобы проведать о товарище и самому попытать счастья.
Дианора была предупреждена и ожидала гостя.
Он остановился в той же гостинице, неподалеку от замка: здесь ему сказали, что Альберт давно уехал и вернулся к себе в Венгрию.
Поляк недоумевал, но хозяйка приняла его так любезно, что он успокоился и подумал:
«Ого! Ну, здесь мы живо справимся. Видно, подъем на гору менее крут, чем все предполагают».
Дианора знала, куда он гнет, и, чтобы скорее покончить, сама направила воду на мельничное колесо.
Не сомневаясь в победе, пан на всех парусах поплыл к мели, на которой должен был сесть. Чтобы сказать кратко, доблестного польского рыцаря постигла точь-в-точь такая же плачевная участь, как и венгерца.
Так же ему было назначено свидание в уединенной башне, так же попался он в западню и был заперт рядом с другом в соседней темнице. Так же открылось окошечко в двери и из него выглянуло лукавое лицо Барбары. Только работа, назначенная ему, была иная: он должен был большими костяными спицами, какие можно видеть в морщинистых руках старых ключниц, вязать чулки из тех самых ниток, которые наработал в соседней темнице его товарищ.
Нечего и говорить, что пан пришел в неописанную ярость, ругался, кричал, безумствовал не меньше, чем Альберт, также помышлял о самоубийстве, и в припадке отчаяния ударился головой о тюремную дверь, но ничего из этого не вышло, кроме шишки на лысом лбу. Владислав был эпикуреец и обжора, а потому пост, не означенный в календаре, показался ему отвратительной пыткой. Посидев дня два-три на одном хлебе и воде, пан сделался как шелковый, принял веселый вид при печальной игре, и притворился, что все это считает презабавной шуткой. Развязно объяснил он панне тюремщице, что всегда считал своим первым рыцарским долгом во всем угождать очаровательным дамам, владычицам сердец, беспрекословно исполняя прихоти и капризы их, которые, ежели молвить правду, бывают иногда немного странными. Но вот беда: пан отроду не вязал чулок и не умеет взять спицы в руки. Барбара ответила, смеясь, что не велика беда, что было бы только со стороны пана усердие, она в несколько уроков научит его вязать. И тут же, просунув длинные спицы с Альбертовой пряжею в окошечко, стала ему показывать, как должно делать петли. Владислав оказался непонятливым учеником, но так как нужда прекрасная наставница, то, в конце концов, с грехом пополам научился нехитрому делу. Правда, петли выходили нелепые и такие громадные, как будто предназначались для повешения конокрада. Но усердие ценили более, чем искусство, и пана тоже стали кормить отборными яствами. Через некоторое время он начал действовать спицами довольно проворно, но так как у него не было природного дара к женскому рукоделию, то в этом искусстве он никак не мог бы поспорить с посредственной чулочницей.