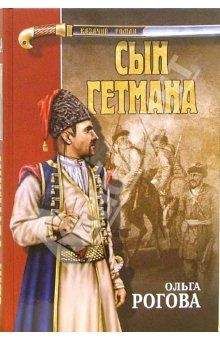– А это что за хлопец? – спросил Сулима, кивнув головой на Тимоша.
– Гей, Тимош! Ты что же прячешься? – засмеялся Ганжа, подведя упиравшегося мальчика к атаману. – Это, братику, будущий вояка, сын Хмельницкого Богдана; отец его отпустил с нами.
– Неправда это, неправда, неправда! – почти с рыданием крикнул мальчик, закрыв лицо руками.
– Фу, цур тебя возьми! – с досадою крикнул Ганжа, – разве я вру, что ли? С ума ты спятил?
– Неправда, диду! Не сердись, диду! Обманул я тебя, – рыдал мальчик, упав на колени.
Пан атаман и Баюн разинули рты от удивления и молча смотрели, что будет дальше.
– Казни меня, пан атаман! – вскрикнул мальчик. – Я солгал, я обманул старого доброго дида; я и Богу солгал! Повесь меня, я не стою ничего больше!
Сулима улыбнулся.
– Ну, если всех таких хлопцев за их грехи вешать, то, пожалуй, и веревок не хватит, – заметил он.
Саженный богатырь встал со своего места, тихо подошел к мальчику и осторожно приподнял его с полу. В маленьких карих глазах его засветилось столько ласки и доброты, некрасивое лицо так оживилось, что Тимош невольно приободрился и даже осмелился взглянуть на страшного казака. В громадной фигуре Павлюка вместе с непомерной силой уживалась почти женская мягкость и любовь ко всему слабому, беззащитному. Несмотря на свои боевые подвиги, Павлюк мог заинтересоваться упавшей из гнезда птичкой, мог бережно укачивать дитя в люльке и растить щенят, котят, за что ему немало доставалось в Сечи от других казаков.
– Полно, сынку! – утешал он Тимоша, посадив его к себе на колени и гладя его по голове своею мощною рукою. – Не убивайся, а расскажи лучше, в чем дело. Нет такого греха на свете, которого нельзя было бы простить.
Тимош, удерживая рыдания, рассказал, как он обманул Ганжу и уехал с ним помимо воли отца. Павлюк с задумчивою улыбкою слушал горячую речь мальчика, а Ганжа сердито нахмурился и немилосердно теребил свой чуб.
– Ишь ведь, бисов сын! Будет мне теперь от пана сотника за твои проказы! Куда я теперь с тобою денусь? Да еще, чего доброго, он и сам сюда нагрянет за нами. Тогда, пожалуй, и дело наше из-за тебя не выгорит.
Быстрый, проницательный взор Сулимы, как молния, скользнул по добродушному лицу Ганжи и снова потупился.
Павлюк поднял Тимоша, как перышко, на руку, подошел к старику, потрепал его по плечу и сказал:
– Ну, полно, друже! Не сердись на хлопца. Видишь, он и то сам не свой. Бываем и мы грешны с тобой, старина, хотя нам Бог и больше разума дал, чем ему.
Ганжа смущенно почесал чуб: ему вспомнились слова сотника, укорявшего его в детском упрямстве, и он ласковее глянул на Тимоша, протягивавшего к нему руки со смущенной улыбкой.
– Уж добре, добре! – проговорил он, поцеловав его. – Я сам, старый дурень, виноват, что взбаламутил твою голову рассказами о казаках и их подвигах.
Павлюк осторожно спустил мальчика на пол, точно боялся раздавить его, хотя Тимош был далеко не из нежных и хрупких: коренастый, здорового сложения, ширококостный, с круглым лицом и сильными упругими мускулами, он казался гораздо старше своих лет.
– Утро вечера мудренее, друзья! – сказал Сулима. – А теперь присаживайтесь к нам; небось устали, проголодались. Я сейчас велю еще принести саламаты.
Он хлопнул два раза в ладоши и молча показал вошедшему казаку на горшок с едой. Тот быстро удалился, и через минуту горячее, дымящееся кушанье стояло перед гостями.
Все отвязали от поясов ложки и стали ужинать.
Тимоша скоро уложили спать, а взрослые долго еще о чем-то совещались и спорили и только на рассвете прилегли отдохнуть.
На другой день весь табор зашевелился. Отдан был приказ сниматься с места. Никто не знал, куда и зачем, но всякий торопился как можно скорее собрать пожитки, расцепить возы, оседлать коня и вооружиться. Атаман велел держать путь к порогам, где на одном из неприступных островов лежали лодки. Проехать через пороги вверх было гораздо опаснее, чем идти берегом, а летнее мелководье еще более увеличивало трудности, так как обозначилось много подводных камней. Тем не менее атаманы решили избрать водный путь, чтобы скорее ударить на крепость и не дать врагу опомниться.
– Завтра к вечеру мы уже будем в Кодаке, – возразил Сулима на замечание Ганжи об ожидающих их опасностях, – а это стоит того, чтобы потерять две, три лодки. Притом теперь берегом ехать не безопасно; сам ты говоришь, что выпустил из рук этого бездельника Вендзяло, и он ускользнул в степь. Если не наткнется на поляков, то, наверно, направит на нас татар, а их тут много бродит. Ведь его прямая выгода предать нас: он знает, что я ему не прощу измены, если останусь в живых.
Ганжа согласился с доводами атамана, и все двинулись к Днепру, к тому месту, где кончаются пороги. Там, ниже последнего, тринадцатого, порога возвышался неприступный утесистый остров – Кашеварница.
– Диду, как же мы попадем на этот остров? – с удивлением спрашивал Тимош, услыхав, что Сулима намерен сделать там привал.
– Вплавь! – лаконично отвечал старик.
Обоз остановился на берегу. Выслали сторожевых казаков и под их прикрытием стали готовиться к переправе. Тонкая, стройная фигура Сулимы вся ожила, вся дышала энергией и силой. Он носился на своем татарском бакемате взад и вперед и зорко следил, чтобы никто ничего лишнего с собою не брал.
– Брать по одному котлу на несколько куреней! – приказывал он. – Можно чередоваться! Кроме котлов, все оставить в обозе! Крупу и соль каждому с собою иметь. Пороху каждый захвати, сколько можешь. Жидов всех при обозе оставить. Обозу медленно двигаться по берегу, а если что, сейчас дать мне знать: сторожевая лодка пусть стоит у самых порогов, – наказывал он обозному.
При обозе оставили немного людей, да и те, кому приказывали оставаться, неохотно подчинялись этому приказанию. Слух о том, что поляки выстроили крепость, быстро облетел весь табор, все рвались разгромить ненавистную панскую затею.
Наконец все приготовления были окончены. Казаки быстро спешились, разделись, привязали одежду к седлам и поплыли, держась, кто за гриву, кто за седло. Тимош тоже последовал примеру всех, хотя Ганжа и советовал ему остаться на лошади, уверяя, что сильному степному скакуну ничего не значит нести на себе такого маленького хлопца. Но Тимош ни за что не хотел обременять своего коня.
– Я умею плавать, диду! – весело возразил он и бодро пустился в путь вслед за другими.
Течение было довольно быстрое; требовалось порядочное напряжение сил, чтобы держаться прямого направления и не терять из виду острова. Сперва Тимош плыл легко и свободно, но мало-помалу он почувствовал, что силы его слабеют.
– Гей, хлопец! Давай, подсажу! – не раз предлагал ему Ганжа, видя, что мальчик устает.
– Ни, диду! – отвечал мальчик, захлебываясь, пыхтя, но все-таки стараясь поспеть за другими.
Наконец, он почувствовал, что руки и ноги у него совершенно коченеют, в глазах темнеет, дыхание спирается. «Диду!» – хотел он крикнуть, но не мог и быстро булькнул в воду. Ганжа в эту минуту обернулся.
– Матка Божа! – воскликнул он. – Хлопца-то никак рыбы съели!
В эту минуту гладко выстриженная голова мальчика с черным коротким чубом вынырнула на поверхность. Ганжа ловким быстрым движением схватил его за чуб. Бледное лицо мальчика посинело, он казался совсем мертвым. Ганжа бережно перекинул его на седло и, придерживая одною рукой, поплыл дальше. Смольчуг плыл позади, он подхватил повод свободного коня и спросил Ганжу, не поддержать ли мальчика.
– Не надо, теперь уж недалеко, – отвечал тот.
Действительно, до острова оставалось только несколько саженей. Скоро они очутились в извилистых проливах, где надо было искусно лавировать между подводными камнями. Много казаков уже толпилось на берегу; кто одевался, кто подтягивал седло, кто сидел, закуривая люльку. Ганжа стал оттирать окоченевшего Тимоша, но тот долго не приходил в себя, так долго, что старый Ганжа даже испугался.
– Не умер ли? – с беспокойством пробормотал он и, прикрыв его своей буркой, опять стал усердно растирать ему грудь, руки и ноги.
– Эх, если бы горилки достать, – с сожалением проговорил он, посматривая на обступивших его казаков.
– Что выдумал, старый! Какая тебе горилка в походе! За горилку атаман таких палок надает, что и ног не унесешь... Был бы тут еще жид, он, может быть, и раздобыл бы, да жидов-то всех в обозе оставили.
На загорелых суровых лицах виднелось горячее участие; эти руки, бесстрастно коловшие и давившие сотни подобных малышей, теперь услужливо подстилали бурки и помогали кто чем мог.
Тимош слабо шевельнулся, с усилием вздохнул и открыл глаза. Старый Ганжа смахнул даже непрошеную слезинку и на радостях чуть не пустился в пляс.
Последняя партия казаков выходила на берег, а вместе с нею и сам атаман в сопровождении Баюна. Тимоша уже одели и закутали в несколько бурок. Он все еще не мог подняться на ноги, сидел и трясся как в лихорадке.