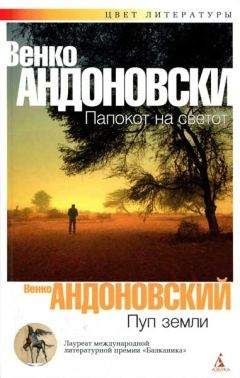— Вас волен зи, гер официр? — пролепетала она, хотя Ваня был только сержантом. — Вир гебэн ауф алес фюр зи. Ауф алес! <Чего желает господин офицер? Мы готовы для вас на все.>
На миг растерялся и Ваня.
— Нихель, нихель! — выдавил он, наконец, из себя. — Зи вас! Наин, найн! <Ничего, ничего! Вы что? Нет, нет!> — И, с трудом подбирая непослушные, чужие слова, объяснил кое-как: ничего, мол, не надо, просто он ищет, где бы солдат своих разместить. Согласятся ли фрейлен, если сюда?
— Битте, битте! — еще пуще расширив глаза, закричала мадьярочка.
Повыскакивали из углов, возбужденно застрекотали и все остальные:
— Я, я! Битте шен, битте шен! <Да, да! Пожалуйста, пожалуйста!>
Что-то лепеча, извиняясь, Ваня попятился. Так спиной и выбрался из подвала и побежал, от стыда весь пунцовый, как ошпаренный рак.
Передовая — не госпиталь. Здесь больше, чем где бы то ни было, каждый боец — часть огромного, неукротимого, слепого подчас механизма, весь без остатка принадлежащий только ему. Не до собственных терзаний, болячек, невзгод. Успевай убивать, не то укокошат тебя. И Ваня позабыл очень скоро о госпитале. Пока освободили — весь в огне, дыму и развалинах — Будапешт, оттеснили гитлеровцев и салашистов за Балатон, добрались до австрийской границы, Ванин расчет поредел почти на две трети. Сколько раз, только прицепят орудие к «студеру», чтобы за отступающим врагом по пятам, как — «К бою!» — опять, отцепляй снова пушку, снова мерзлую февральскую землю долбай, пали по развернувшимся вдруг в контратаку фашистам.
Немцы теперь изо всех сил цеплялись за Австрию: дальше — на запад — союзники. И Фюрстенфельд, Грац и Вену пришлось брать в тяжелых упорных боях. На южные окраины австрийской столицы Ванина бригада вслед за «тридцатьчетверками» ворвалась только в ночь на тринадцатое апреля.
Братскую могилу зарывали под вечер. Ваня затерялся в гуще притихших неподвижных солдат и ни сам в руки лопаты не брал, не приказывал и своим номерным. А, как и все (кроме, конечно, могильщиков), стоял истуканно и угрюмо молчал. Зарывали в землю и Лосева — самого старого из батареи, на Кавказе еще с ним воевал; пока не получили машин, был он ездовым, а сменили на них лошадей, направляющим стал — пушку за станины таскал-поворачивал. А теперь, под самую завязку войны, выпотрошил ему кишки осколок. Перед самым первым мая Ваниному полку вместо послуживших еще с освобождения Кубани «семидесятишестимиллиметровок» вручили новые «сотки» — с длиннющими пятиметровыми стволами, со щитами из надежной почти сантиметровой брони и со спаренными колесами на гусматике и масляных амортизаторах, а вместо «студебеккеров» могучие гусеничные тягачи с просторными кузовами, набитыми до краев ящиками с мощными унитарными снарядами.
«Эх, — вздыхал завистливо Ваня, — пораньше такие бы нам, на Кавказе еще. А то… «Сорокапяток» несчастных, «хлопушек» и тех… На всю батарею — одна. Да-а, тогда бы… Как вжарил бы по фрицевской «тэшке» — и пополам. А теперь-то зачем? — не мог понять он. Война кончалась уже. А для Вани здесь, в этой прекрасной австрийской столице (еще в довоенном фильме «Большой вальс» поразился ее красоте), похоже, уже и закончилась. Хотя… Как ни гордился новенькими мощными пушками, как ни сожалел, что не придется их уже применить, в глубине души все-таки таилось куда более сильное и стойкое чувство: — Неужто, — подкатывало под горло порой, — не досидим здесь до победного дня и снова нас куда-нибудь бросят?»
Что за дни стояли тогда! Вовсю полыхала весна, вся Вена благоухала цветами, по ночам в парках, на улицах, на площадях, всюду, где зеленела листва, заливались без умолку соловьи. Сам воздух был напоен уже близкой долгожданной победой. И в каждом, во всех — и в Ване звенело одно: уцелели, живы! Господи, мир — вот-вот, на всей, казалось, земле, навсегда! Ваня словно пьяный ходил — каждого, всех готов был обнять.
Однажды неподалеку от казармы встретил девчонку — голенастую, голубоглазую, в светлых кудряшках. С ходу, легко подкатился к ней, тут же сорвал и протянул ей расцветшую ветку жасмина, из кармана достал шоколад (здесь же, под Веной, после последнего боя в изуродованной фрицевской «тэшке» нашел), что-то бросил по-немецки ей невзначай. Чуть испуганно, с любопытством она вскинула на него голубые глаза.
— Битте, — протянул он ветку и шоколад. Она не брала.
— Ну, битте, битте, — И он сам их решительно втиснул ей в руки. — Фон ганце харц! Фон русиш солдат! <От всего сердца! От русского солдата!>
— Данке шен, данке шен, — засмущалась, заулыбалась, залепетала она. — Данке шен. — И, не сразу опомнившись, словно вдруг что-то сообразив, скинула с локтя плетенную из ярко раскрашенных прутьев корзину и достала гвоздичку. — Битте, — и протянула ему.
— О-о-о! — восхитился Ваня и принялся нюхать цветок. — Данке шен. — По школьной программе знал только «данке», а «шен», вернее, сочетание это — «данке шен», слышал впервые, да от мадьярок еще, в Будапеште, в подвале. Отдельно же «шен», в переводе на русский, — прекрасно. Дальше нетрудно было сообразить… И охотно, приветливо за ней повторил:- Дакке шен, данке шен. — Понюхал, понюхал гвоздичку и ткнул в себя пальцем:- Ваня Изюмов, — и весело заулыбался всем своим обветренным, загорелым, чуть в веснушках лицом, звякнул погромче наградами на неположенном ему, но тем не мене раздобытом в обмен на трофейный перламутровый театральный бинокль офицерском кителе, оправил тоже неположенный «парабеллум» в чужой кобуре на чужом трофейном ремне, неположенным для рядовых и сержантов чубом тряхнул.
— Ретзель, — все еще смущаясь, назвалась и она. Слово за слово… Он, конечно, сперва о себе… Малость, конечно, приврал: студент, мол, журналистом или, как и родители, учителем станет — по русскому, по литературе, назвал не действительные, а те же, прибавленные еще до призыва, в школе, года… Затем спросил и о ней. Оказалось, она еще школьница. Но в школу не ходит — закрыта давно. Мама — в Тироли, на ферме, на заработках: три года назад забрали на службу отца. С тех пор и не слыхала о нем ничего. Вот и ходит из дома, из соседней деревни к деду сюда, помогает ему цветы продавать.
Впервые за все, казалось, бесконечные военные годы — по окопам, казармам, госпиталям — Ваня будто снова, как прежде по городской родной набережной с Ритой или с Олей, теперь с австрийской девчонкой гулял — вдоль Дуная, вдоль домов, сложенных из разноцветного кирпича, под стрельчато-высокими крышами и с цветниками. Все, все позабыл рядом с девчонкой. А взглянул на часы — обомлел. Давно уже на батарею пора. Наспех, в смятении попрощался и пустился в казарму бежать.
И не поверил, когда на следующий день она вдруг сама явилась к нему и попросила дежурного у ворот вызвать его. Потом еще раз, еще… Так и прогуливались, когда удавалось, возле казармы, от офицерского глаза таясь. Пока однажды под вечер не свернули на соседнее кладбище, уже чувствуя, зная, зачем, что там их ждет, сразу примолкнув, потупившись, боясь смотреть друг другу в глаза. Застыли у одинокой, уже зеленевшей невысокой апрельской травой безымянной могилы — под одичавшим, буйно цветущим кустом бузины. Она стояла, легонько дрожа, и ждала. А Ваня не ведал, с чего начинать. Ни с того ни с сего?.. Так, что ли, сразу? Он так не мог. И тогда, в будапештском почтамтском подвале, не смог, не мог и сейчас. Даже, когда, казалось, само к тому шло — только начни. А как — он не знал. Никогда ничего с ходу, нахально чужого не брал. А вдруг у нее и в мыслях ничего подобного нет, просто так забрела с ним сюда. И что же тогда она будет думать о нем? Нет, нет, он так не мог. Даже война не смогла убить, растоптать в нем того, что вошло в него еще с детства, на родной стороне, в счастливые мирные дни. И оттого, что стоял, не решался, не действовал, а копался в себе, тревога росла, мысли и чувства пошли вкривь и вкось, и в душе начало подыматься и то, чему бы сейчас и вовсе не следовало, — коварная рана, соломенный госпитальный матрас, казалось, забытые сомнения, страхи. И на глазах у нее он все больше и больше терялся, уходил куда-то в себя, становился, как и до первой встречи, чужим.
— Ван-йа, — испугалась, прошептала она, вскинула руки к груди. — Вас ист дас? <Что это значит?> — За войну, особенно, как стала взрослеть, а тем более продавать на рынке цветы, слышала об этом не раз. Сразу подумала, что того же испугался и он. И, тыкая в себя указательным пальцем, взмолилась: — Ван-йа! Ду канст ганц руиг зайн! Я, я, руиг зайн! <Ты можешь быть совершенно спокоен. Да, да, спокоен!> — И так как Ваня не ответил ничего и на это, только еще ниже глаза опустил и стал смотреть себе под ноги, она прокричала еще оскорбленней, еще горячей: — Нихт ангст, Ван-йа, нихт ангст! <Не бойся, Ваня, не бойся!>
Он не понимал пока ничего: почему вдруг и чего именно она призывает его не бояться. Разве она может быть чем-то страшна? Это он может — намного сильнее, вооруженный, чужеземный солдат. А она-то?.. При чем тут она? Было вскинул сникший, избегавший ее растерянный взгляд. Встретил такой же ее. Тут же снова отвел. Она, видать, и это расценила по-своему. Поджала чуть припухшие влажные губы, тоже, как и он, глаза отвела, невзначай отступила назад. И, наткнувшись каблуками истоптанных туфель на подножие могилы сзади себя, будто споткнулась и невольно опустилась на нее — на уже зеленевший пыреем мягкий ковер. Тут же хотела подняться, уже о могилу рукой оперлась, другая вскинулась вверх. Но все еще не была, видно, настроена ни на что решительное, моментальное, резкое, все чего-то еще, казалось, ждала, может быть, какого-то слова, жеста с его стороны. Но он не говорил ничего. И руки ей своей не подавал, как, гуляя с ней, делал это всегда, лишь бы коснуться ее, лишь бы внимание проявить. И она как опустилась на холмик, так и осталась сидеть. Все ниже и ниже склоняясь, руки прижимая к лицу и что-то уже бормоча.


![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](https://cdn.my-library.info/books/142921/142921.jpg)