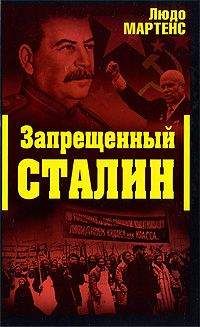Помня наставления камердинера, Есениус сделал определенное количество шагов с поднятой головой и остановился рядом с Браге. Только после этого, соблюдая все церемонии, доктор отвесил придворный поклон: правую ногу он несколько отставил назад, как бы собираясь присесть, низко опустил голову и, держа в руке шляпу, описал ею полукруг; страусовое перо при этом скользнуло по драгоценному персидскому ковру.
На императора, любившего изысканные манеры испанского двора, посетитель произвел благоприятное впечатление.
Рудольф сидел за роскошным письменным столом, в резном кресле с мягкой обивкой. На голове у него была низкая шапочка, отороченная золотым шнуром; страусовое перо было прикреплено к ней золотой заколкой, украшенной большим сверкающим бриллиантом.
— Наш славный придворный астроном Браге сказал нам о вас столько похвальных слов, что мы весьма рады вашему прибытию в нашу столицу, — тихо, почти шепотом, произнес император.
Хотя обивка кабинета приглушала звуки, но посетитель — в особенности тот, кому не были известны императорские привычки, — невольно чувствовал, что в этой комнате нельзя громко разговаривать. Чувствительные, болезненно раздраженные нервы императора не выносили ни малейшего шума. Казалось, пугливый император боится громкого, оживленного разговора.
Только два звука были милы императорскому слуху и воспринимались им как радостная, убаюкивающая музыка: ржание буйных арабских коней и львиный рык в Оленьем рву.
— Для меня великая честь, что я могу выразить вашему императорскому величеству свою преданность, — тихо, но с достоинством промолвил Есениус и склонился в глубоком поклоне.
Наступила пауза. Император глядел на доктора, но взгляд его был каким-то загадочным, отсутствующим. Казалось, он не замечал стоявшего перед ним человека.
Тихо Браге и Есениус молчали. Они ждали следующего вопроса.
Между тем Есениус внимательно рассмотрел императора.
Перед ним сидел невысокий человек с шарообразной головой, на которой прежде всего бросалась в глаза нижняя губа, большая, выдающаяся вперед, — характерная черта всех Габсбургов. Водянистые округлые глаза смотрели на мир так, словно в императорском сердце навеки поселилась глубокая печаль. Меланхолия.
Так это называли императорские лейб-медики. В особенности известнейший из них, славный Христофорус Гваринониус[3] Меланхолия оплетала его сознание, как паутина, захватывала разум настолько, что вырваться из этой сети он уже не мог. Меланхолия?.. Но тут Есениус спохватился, как бы испугавшись, что император прочтет его мысли. Но, убедившись в обратном, он завершил свои рассуждения: а может, и что-нибудь похуже? Безумие?
— Несколько лет назад вы посвятили нам свой докторский трактат. Как он назывался?
— «Progymnasma peripateticum», ваше величество. О божественной и человеческой философии.
Кровь бросилась в лицо Есениусу. Свой трактат он посвятил императору девять лет назад, а император до сих пор это помнит.
Такого признания он, право, не ждал.
Браге посмотрел на своего друга с улыбкой, полной восхищения.
«А читал ли император мой трактат?» — мелькнуло в сознании Есениуса, но у него не было времени поразмыслить над этим вопросом, так как мягкий, словно немного робкий голос императора заставил его снова напрячь внимание.
— «Progymnasma peripateticum»? Да, да, я вспоминаю. А разве в нем не было и кое-чего другого? Нечто о тиранах…
Удивление Есениуса сменилось ужасом. Даже это известно императору? Ведь вторая часть трактата не была напечатана. Откуда император о ней знает? Есениус бросил взгляд на Браге — может быть, он рассказал? Но на лице астронома также было написано удивление. Нет, Браге не мог рассказать императору, ведь он сам ничего не знал о трактате. Выражение его лица убедительно свидетельствует об этом. Кто же тогда сообщил обо всем Рудольфу?
Времени на размышление не было, вопрос императора требовал ответа. Посетитель обязан отвечать сразу, так как император не должен ждать. Заставлять ждать — это право императора.
— Pro vindiciis contra tyranos. Обоснование законности выступлений народа против тирании. Только этот трактат не был мною опубликован, — ответил Есениус, глядя прямо в глаза императору.
В глазах монарха зажегся еле заметный ехидный огонек.
— Жаль, что вы не напечатали такое сочинение, — быстро ответил император; было ясно, что его весьма занимает предмет разговора. — Мы бы с удовольствием его прочитали.
Но в его голосе слышалось что-то недоброе. Есениусу показалось, что он уловил зловещий оттенок иронии. Неужели император всерьез думает об издании его книги?
Все эти сомнения молнией промелькнули в голове Есениуса и погасли раньше, чем успели отразиться на его лице.
— Интерес вашего императорского величества к моей скромной работе является для меня величайшей наградой, — промолвил он и с учтивым поклоном добавил, отвечая на вопрос императора: — Я где-то затерял рукопись, но как только найду, сразу же подготовлю ее к печати.
Император притронулся к золотой цепи и, рассматривая орден Золотого руна, висевший у него на груди, пытливо спросил:
— Следовательно, вы не поклонник Макиавелли?[4]
Есениус многое бы дал тому, кто бы поведал ему, что думает о Макиавелли император. Ведь основное сочинение Макиавелли, книга «Государь», явилось мишенью нападок Есениуса в тот незабываемый августовский день 1591 года, когда во францисканском костеле в Падуе на диспут собрались разные знаменитости. Пришел даже сам князь д’Эсте и все профессора Падуанского университета во главе со знаменитым профессором Аквапенденте. Среди гостей был и его друг и соученик князя Зденек Попел из Лобковиц. Вспомнив это имя, Есениус с трудом удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Действительно! Зденек Попел, тогдашний верховный имперский канцлер, послал императору сообщение об этой дискуссии. Разумеется, это не давало ответа на вопрос, какого мнения император об авторе «Государя», но, как бы там ни было, императору известна точка зрения Есениуса на Макиавелли, и поэтому ответ доктора на вопрос императора уже не может ничего изменить. И Есениус уже собирался сказать всю правду, все, что он думал, все, что говорил девять лет назад на диспуте. С его языка был готов сорваться ответ: «Я считаю книгу Макиавелли «II principe» вредной, потому что она толкает властителей на совершение незаконных поступков». Но в последнюю минуту он спохватился: одно дело его докторская диссертация, а другое — разговор с императором. Ведь в конечном счете девять лет назад он был всего-навсего студиоз, только что окончивший курс, юнец, в горячей голове которого роились всевозможные кощунственные мысли и смелые планы, к сожалению, подчас весьма далекие от действительности. Жизненный опыт, пришедший с годами, научил его, что головой стену не прошибешь, что в разговорах с сильными мира сего не следует лезть на рожон, а лучше всего поступать, как сказано в Библии: «Будьте кротки, аки голубица, и осторожны, аки змий». Мысли, которые, будучи высказаны в кругу университетских профессоров и студентов, легко объяснимы и понятны, так как их непримиримость может быть смягчена контраргументами оппонента, в разговоре с императором приобретают значение опасных, бунтовщических. Если бы император отнесся к ним именно так, можно было распроститься с надеждой на благосклонное решение спора о наследстве. Конечно, это еще не означает, что Есениус должен отказаться от своих убеждений, однако все же лучше начать более дипломатично. И ответ доктора был именно таким:
— Надеюсь, ваше величество, вы не будете на меня в претензии, если я признаюсь вам откровенно, что вообще не принадлежу к поклонникам, вернее, к почитателям этого выдающегося государственного мужа и флорентийского писателя.
— Если мы правильно поняли ваш ответ, вы не разделяете идей и принципов Макиавелли, изложенных в его сочинении «II principe»? Вы это думали сказать?
Есениус склонил голову, мозг его лихорадочно работал. Он усиленно искал подходящие слова, чтобы объяснить императору свое отрицательное отношение к Макиавелли.
— Чем вы можете обосновать свое несогласие с ним?
Есениус посмотрел на Браге, как бы ища у него поддержки или одобрения, потом, не повышая голоса, заговорил с расстановкой:
— Советы Макиавелли, которые он дает в своей книге монархам, я считаю академическими рассуждениями, которые невозможно применить в жизни.
— Почему? — неожиданно быстро спросил император.
— Потому что… потому что нельзя пользоваться в политике одной моралью, а в жизни — другой. Закон божий не допускает различия между простым человеком и властителем. А синьор Макиавелли провозглашает как раз обратное.