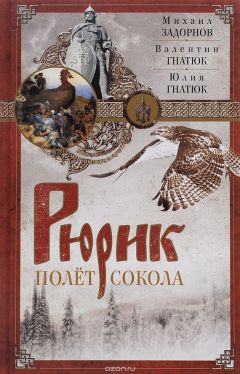– Оборотись-ка, воевода, – велел мольфар после славления.
Боскид обернулся и вдруг замер, удивлённо склонив голову:
– Гляди, отче, какая от меня огромная тень легла на склон и долину, а от тебя и охоронцев нету даже малейшей. Как так может быть?
– Место сие непростое, – молодо блестя очами, рёк мольфар, – тут каждый сам на сам с Богами беседует. Я вот тоже только свою великую тень зрю, а твоей не вижу.
– И я только свою, – почти хором ответили оба охоронца, поражённые небывалым зрелищем.
– Отчего так, отче? – боясь потревожить священную тишину необычного утра, тихо спросил воевода. – И что сие значит?
– Сие означает, что каждый из нас должен творить своё великое дело, не оглядываясь на другого. Всевышний освещает солнцем всех в равной мере и в то же время ведёт с каждым из нас только свою беседу. И все наши дела – правые и неправые – открыты перед взором его, как на сей голой скале. И о том должно нам всякий час помнить!
Ворочалась дружина к Киеву, и с ней вместе под охраной сотни воинов шли возы с первой данью. На возах были овечьи шкуры, тонкая и длинная карпатская шерсть, кожи, мёд, деревянная смола и берёзовый дёготь. Пять тысяч угорских коней, круторогие волы, отары белых и чёрных овец и всё добро на возах свидетельствовали князю русскому, что край сей отныне принадлежит ему.
А горы, у которых русская тьма разбила угров, стали впоследствии именоваться Бескидами. То ли в честь воеводы киевского, то ли, как пояснил мольфар, в честь древнего племени бессов, издавна жившего в сих краях и владевшего тайнами всяческого волшебства.
Глава 2
Никифор Фока
Лета 6475 (967), Константинополь
На большой медвежьей шкуре, брошенной на мозаичный пол, у давно погасшего очага, раскинув руки, спал широкоплечий черноволосый муж лет сорока с лишним, одетый в довольно ношенный пурпурный виссон.
Солнце уже поднялось над водою пролива и заглянуло в узорчатое окно второго этажа, разбудив спящего, который по давней привычке почти всегда вставал с первыми лучами. Перевернувшись несколько раз с боку на бок и сладко потянувшись, муж поднялся и подошёл к окну.
Розовые лучи осветили смуглый лик, обрамлённый густой с проседью бородой. Маленькие пронзительные глаза под густыми бровями задумчиво остановились на раскинувшемся внизу городе, при этом ноздри крючковатого носа чуть подрагивали. Наконец, оторвав взгляд от созерцания городской картины, муж зашлёпал босыми ногами в туалетную комнату, откуда стали доноситься плеск воды и довольные шумные возгласы. Из туалетной комнаты муж появился без одежды, мокрый до пояса. Он был среднего роста, широкая грудь, плечи и литая шея выдавали опытного, закалённого воина. Однако впечатление портил округло выдающийся живот, отчего ноги казались короче, а рост ниже. Вытирая мягким полотенцем грудь, покрытую тёмным курчавым волосом, муж перевёл взгляд на образ Богородицы. Небольшая, не более трёх локтей статуя работы одного из лучших ромейских скульпторов стояла в обрамлённом золотом и драгоценными камнями алькове справа от окна. Быстро одевшись, муж опустился на колени и принялся молиться. Он делал это не по привычке, а истово, вкладывая в слова молитвы сердце и душу. Закончив молитву, ещё некоторое время стоял на коленях, не произнося ни слова. «Как просто человеку беседовать с Богом, – вдруг подумалось ему, – и как сложно находить общий язык с Его слугами…»
Поднявшись, муж подошёл к обширному ложу, так и оставшемуся нетронутым, и дважды дёрнул за висевший у изголовья шнурок. Раздались быстрые шаги по лестнице, и в комнату поднялся молодой воин, тут же распростёршийся ниц с почтительными словами:
– Приветствую твоё пробуждение, великий император! Да благословит святая Богородица каждый день твоего божественного правления!
Император Византии, называемой Империей Ромеев, Никифор Второй Фока жестом велел оптиону подняться.
– Я вчера рано заснул, никто не приходил ко мне вечером?
– Нет, богоравный, никого не было, – ответил молодой воин.
– Хорошо, я хочу есть, пусть принесут сюда, – велел император. – Повар тоже пусть зайдёт.
Оптион поклонился, и его сандалии из крепкой воловьей кожи застучали по лестнице вниз. Спустя несколько минут воин вновь появился, пропустил вперёд повара и двоих прислужников и остался у двери, строго следя за распорядителями царской кухни.
Поставив еду на низкий мраморный столик, помощники тут же исчезли, а повар застыл на коленях в выжидательной позе. Против обыкновения, личный повар императора не был тучным, даже несколько худощав.
Божественная десница, унизанная драгоценными перстнями, указала на жареную рыбу с овощами, отварную фасоль с подливой и мезе – традиционную лёгкую закуску из сыра с оливками, посыпанную орегано. Повар поочерёдно попробовал всё, затем осторожно распечатал красную амфору и налил в отдельный маленький кубок холодной белой рецины. Но император тут же выплеснул вино, так же молча наполнил свой изукрашенный каменьями кратер и отлил из него в кубок. В помещении остро запахло сосновой смолой, которую греки издавна добавляли в вино, тем самым предотвращая его скисание.
Повар покорно выпил, император подождал немного, внимательно глядя на слугу, и лёгким взмахом руки отпустил его.
– Что богоравный василевс желает на обед? – спросил, опуская лоб на мозаичный пол, повар.
– А что предложишь? – спросил за Никифора оптион.
– Если на то будет воля Божественного, – забормотал повар, – мы бы приготовили рыбный суп «Посейдон», фаршированные оливки, сырный пирог-тиропиту, грушевый десерт апидеа и катаифи с миндалём, корицей и мёдом…
– Годится, – отозвался, наконец, император. – Ещё яйца с икрой, а из вин не забудь «Мавродафни».
«Хоть и простые блюда ем, однако живот вон как разнесло, – вздохнул про себя василевс, когда повар ушёл. – Всё из-за бесконечных дворцовых приёмов, обедов, застойной жизни. Грешен, пристрастился… Да, а на сердце не по-весеннему смутно. Может, из-за того, что Феофано последнее время избегает меня?» – думал, пережёвывая еду крепкими зубами, Никифор.
После завтрака император, по обыкновению, отправился на обход дворцовой территории, превращённой по его приказу в настоящую крепость.
К выходу Никифора Фоки во двор там уже выстроились воины Армянской столичной тагмы и две сотни тяжёлых панцирных катафрактов – его любовь и гордость. Весеннее солнце играло на железном одеянии несокрушимых воинов, закованных с ног до головы, как и их могучие широкогрудые кони.
Патриарх Полиевкт и знатные горожане не раз упрекали императора, что он чрезмерно много тратит на армию, ущемляя ромейцев бесчисленными налогами. Никифор с негодованием отвечал, что все они имеют возможность раскармливать свои изнеженные тела и предаваться разврату только благодаря армии, без которой империя не проживёт и месяца. Ах, какая мощь, какая неодолимая сила в тяжёлой поступи железной конницы, кажется, даже стены дворца содрогаются от этой панцирной армады. Конечно, амуниция даже одного такого воина стоит немыслимых денег, а уж сотен и тысяч…
Настроение императора после лицезрения любимого детища улучшилось.
Армянской тагмой, в состав которой входила с недавнего времени и Дворцовая гвардия, командовал Иоанн Цимисхес. Невысокий, стройный и по-особому щеголеватый Иоанн отдавал команды чётко, даже с артистизмом. Хотя они с Никифором были двоюродными братьями, Иоанн являлся полной противоположностью Никифору: белокожий, светловолосый, с голубыми глазами, тонким носом и аккуратной клинообразной бородкой. За свой невысокий рост он и имел прозвище Цимисхес, то есть «туфля». Однако превосходил многих своей дерзостной отвагой. Казалось, Цимисхес вовсе не ведал страха: он мог в одиночку напасть на целый отряд, молниеносно изрубить множество врагов и вернуться обратно невредимым. За эту отчаянную храбрость и любил Никифор Фока своего родственника и многое прощал ему. Он присвоил Иоанну почётное звание дуки, которое прежде имел сам.
В то же время при виде Цимисхеса сразу невольно вспомнились придворные сплетни о том, что сей отчаянный красавец якобы спит с его женой Феофано. Но в эти слухи Никифор не верил, поскольку знал Иоанна как верного и честного офицера. Именно Иоанну он, Никифор Фока, во многом обязан своим царским титулом. Воспоминания о том удивительном взлёте на вершину ромейской власти ещё более подняли настроение императора. Сколь сладок был миг победы! Всё вспомнилось, будто и не прошло почти четыре долгих, как вечность, года.
Как тогда при триумфальном возвращении в Константинополь после победы над арабами смотрела на него прекрасная Феофано, как потускнел её взгляд, мельком скользнув по лику безвольного, чаще всего нетрезвого супруга Романа, как искривились на миг пренебрежением её бесподобные уста. Потом несколько тайных свиданий и горячих, неистовых, как сражение, ночей, после одной из которых она шепнула, прощаясь: «Ты будешь императором!» Поверил ли он ей тогда? Даже если и поверил, то не ожидал, что всё свершится так скоро. Никифор был в походе, когда до него дошли слухи о скоропостижной смерти императора Романа Второго. Феофано, соответственно закону, стала опекуншей малолетних наследников Василия Второго и Константина Восьмого. Но не всё сложилось точно так, как рассчитывала супруга покойного императора. Неожиданно для неё всеми делами стал распоряжаться бывший воспитатель Романа Второго, ненавистный ей евнух Иосиф Вринга, опытный в дворцовых интригах и изворотливый царедворец. Каково было ей, пылкой любительнице настоящих мужчин, терпеть фактическую власть женоподобного евнуха. Кто знает, сколь долго бы длилась эта борьба, если бы хитроумный Иосиф не перехитрил самого себя.