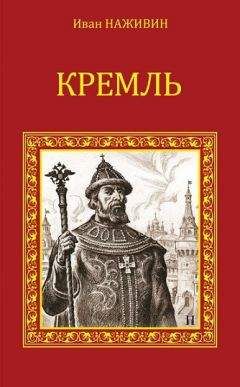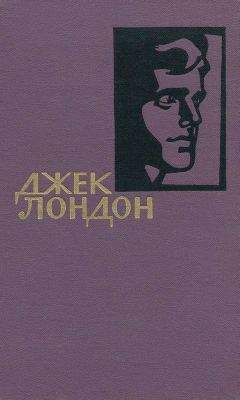– Да, да… – рассеянно вздохнул хозяин, поп Григорий, плотный, с буйною растительностью на лице и на голове и с маленькими умными медвежьими глазками. – Вчерась задумался я что-то над Евангелием, над Тайной вечерей. Там сказано, что Христос омочи хлеб в вине и подал его Иуде и с той-де минуты вошел в того сатана. Как это понимать надо? Почему с той минуты? Неужели же от хлеба, Христом поданного, может в человека вселиться сатана? Зачем же нужно было Христу губить так несчастного? Ох, темно, темно! Может, Люлиш и прав: лучше собрать все эти писания жидовские да в огонь и бросить. Может, кто нарочно все это напутал, чтобы над людьми посмеяться, а мы вот мучимся…
– Да разве это только? – усмехнулся Тучин, не любивший Библии. – А грязи всякой сколько… Ведь иной раз без стыда чести не можно.
На мосту послышались вдруг быстрые шаги, и в сени вошел Самсонко, сын отца Григория: он стоял у ворот на страже, чтобы кто чужой не захватил беседы врасплох.
– Батюшка, там к воротам подвернул духовной какой-то… – сказал он. – Словно сам отец Евфросин скопской.
– Негоже дело… – вставая, сказал отец Григорий. – Да ничего не поделаешь…
Евфросин-игумен, худенький, весь прозрачный старичок, кряхтя, вылез из возка, оглядел халат свой, весь забрызганный грязью осенней, и покачал головой: эка, угваздался как!.. И, забрав немудрящий узелок свой с пожитками непыратыми, все кряхтя, полез на мост.
– Отец Евфросин, сколько лет, сколько зим! – радушно приветствовал его отец Григорий. – Ну и порадовал! Здорово, родимый…
Они облобызались троекратно. Пока отец Григорий не ушел в ересь, он очень дружил с суровым Евфросином, уважая строго подвижническую жизнь его и великое рвение к вере.
– Ну, как ты тут здравствуешь, отче Григорие? – прошамкал отец игумен.
– Да живем, хлеб жуем… – отвечал тот. – Ползи давай, ползи… А ты, милой, – обратился он к забрызганному до бровей глиной вознице, – давай заворачивай во двор: коням овса дашь позобать, а сам в избу иди, подкрепишься… У меня тут кое-кто из дружков моих собрались, – предупредил он старого игумена, – о делах наших новгородских потолковать… Ползи, отче святый…
Евфросин невольно на пороге остановился: сени были полны гостей. Кроме Тучина, Евфросин не знал никого.
– Ничего, ничего, отче, то все свои… – сказал отец Григорий. – Давай разоблокайся… А потом попадья поснедать тебе что Бог послал соберет…
– Нет, нет, того, отче, не надобно, – сняв свой халат, поднял Евфросин свои сухие ручки. – Ты мое положение знаешь, просвирочку да маненько водицы утром – и конец… Ну, здравствуйте, новгородцы…
Все по очереди подошли под благословение. И снова расселись…
– Слышали, слышали мы тут о псковских смутах-то ваших… – проговорил отец Григорий. – И у нас не спокойнее…
– Сего ради и приехал я к владыке нашему… – сказал Евфросин. – Сладу со смутотворцами нету… Вы, чай, слыхали все про Столпа: был попом, овдовел, а чтобы опять жениться, сложил сан, и опять овдовел, и опять женился… А теперь привязался ко мне: зачем ты аллилугию не двугубишь? Как, говорю, зачем? Я к самому патриарху в Царьград за этим ездил, и он повелел мне сугубить… И в такой гнев вошел сей троеженец, сей распоп окаянный, что весь Псков против меня поднял. Едут которые псковитяне мимо монастыря моего и шапок не снимают: здесь еретик-де живет, который святую аллилугию сугубит! А я так прям ему и сказал: не просто Столп ты теперь, а столп мотылен [1] и вся твоя свинская божественная мудрость – путь к погибели… Пущай владыка разберет дело наше, пусть даст людям устроение… Вы только подумайте: на самого константинопольскаго патриарха глаголят уже хульная, и разгневася, и воскрехта зубы, аки дивий зверь или лютый волк скомляти начат.
– Ну, пожалуй, теперь владыке не до твоего аллилугия, отче… – усмехнулся отец Григорий. – Тут Москва такого аллилугия задать Новгороду хочет, что…
Все переглянулись с усмешкой. Евфросина поразил неуважительный тон попа к святому аллилугию: нешто попу пригоже говорить так о святых вещах? И вообще во всем тут старому игумену чудилось что-то неладное. Недаром Самсонко у ворот чего-то караулил… Он пожевал бескровными губами.
– А зря вы тут с Москвой все задираетесь… – сказал он скучливо. – Москва бьет с носка, как говорится…
– Это все большие бояре крутят… – сказал дьяк Самоха. – Одни с Марфой Борецкой под Казимира литовского тянут, а другие за Москву. Вот и идет волынка. Те, которые за Москву да за старую веру тянут, послали по какому-то делу посольство к великому князю, и послы, не будь дураки, стали Ивана государем величать, хотя по пошлине новгородцы его всегда только господином величали. А москвичи рады, сичас же ухватились: какого-де вы государства хотите? А тут литовская сторона подняла на дыбы все вече: никакого государства мы у себя не хотим, а хотим жить по старине. И такая-то буча поднялась, беда! Которых в Волхов побросали… А великий князь, известно, опалился: и Софья его премудрая, и советники его, рядцы, развратницы придворные, поддержали, что обидеться-де самое время.
– Ну, он и сам не лыком шит!.. Не клади пальца в рот, а то откусит…
– Это что говорить!..
– Зря, зря… – покачал высохшей головой Евфросин, хотя постоянные наскоки Москвы на Псков и ему надокучили. – С сильным не борись, как говорится. Забыли, знать, что недавно-то было…
Лет шесть тому назад Иван III, видя, что новгородцы все больше склоняются на сторону его недруга Казимира, вдруг вборзе двинул полки свои на Новгород, и князь Данила Холмский на берегах Шелони вдребезги разнес силу новгородскую, хотя москвичей было всего четыре тысячи – то был только головной полк, – а новгородцев под начальством посадника Дмитрия Борецкого сорок тысяч. Правда, новгородский владыка, играя на обе стороны, приказал своему полку – у владык был и свой полк, и свой стяг – в поле-то выйти, а в битву не встревать. Литовская партия тщетно ждала подхода Казимира. В Новгороде стало голодно: подвоз хлеба с Волги, «с низу», был Иваном прекращен. Новгородцы запросили мира. Иван повелел всем четверым полководцам новгородским отрубить головы, взял с новгородцев пятнадцать тысяч окупу, вече и посадника оставил им по старине, но взял себе право верховного суда. И люди с нюхом потоньше поняли, что это начало конца.
– А ты толкуешь: аллилугиа!.. – повторил отец Григорий. – Не пришлось бы скорее со святыми упокой петь… над вольностью новгородской, над Господином Великим Новгородом… – дрогнул голосом отец Григорий. – Иван этих наших шуток новгородских не понимает…
Гости между тем под разными предлогами расходились. Сразу было заметно, что незваный гость помешал…
– Ну, вы тут как хотите с Москвой разделывайтесь… – сдержав зевок, проговорил Евфросин. – Мое дело тут сторона: не о земном мы, пастыри, пещись должны, но о небесном.
Собрание расходилось. За дверями все что-то с хозяином низкими голосами уговаривались: должно, опять что-то замышляли. Евфросин уже сожалел немного, что старые кости свои с места стронул; ты гляди, как наблошнились тут все языком-то вертеть. Понятное дело, что им до аллилугия!..
– Охо-хо-хо… – вздохнул он сокрушенно. – Суетимся вот, терзаемся, то да се, а жить-то всего с овечий хвост осталось: пасхалия-то на исходе. А там и свету вольному конец…
– Не все так, отче, полагают… – мягко возразил отец Григорий. – На том, что с концом седьмой тысячи лет от сотворения мира и свету конец, согласны все, да вот откуда считать-то начинать?
– Как откуда? – сердито воззрился на него старый игумен. – Окстись, отец!.. Что ты? Знамо, от сотворения мира…
– А сотворение-то мира когда было? – сказал отец Григорий, уже сожалея, что начал этот разговор. – Эллины считают, что сотворение мира было за пять тысяч пятьсот восемь лет до Рождества Христова, а по Шестокрылу выходит всего три тысячи семьсот шестьдесят один. Стало быть, в тысяча четыреста девяносто втором году миру-то будет не семь тысяч лет, а только пять тысяч двести пятьдесят три…
А боярин Григорий Тучин, выйдя, задумался тем временем на берегу Волхова.
«Вера… – думал он, глядя в мутные волны реки. – А вера эта только собрание глупых сказок жидовских, грецких да болгарских. Это ими закрыли попы на века от народов учение Христово. Черная туча поповская страшнее тучи татарской, что вот уже двести лет над Русью висит. И все множатся больше и больше: поп или монах всюду, куда ни пойди. И бестолочью своей отравляют всю жизнь… Они не виновны, что слепые сами? Так, не виновны. Никто себе не злодей. Да ведь вот червь, что в этом году на зеленую вершь пал и все пожег, тоже ведь не виновен, а кабы было средствие какое, разве не уничтожили бы его земледельцы?..»